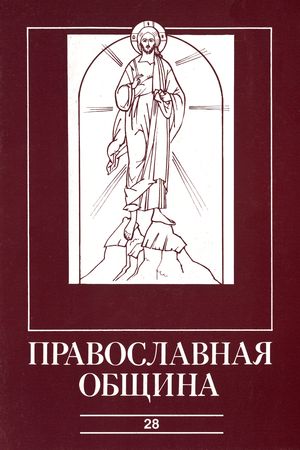Поездка на Красную Вишеру. Последнее свидание с батюшкой Ильёй Николаевичем (май 1932 года)
Была весна 1932 г. Прошло уже полгода моей разлуки с батюшкой. В тот год Пасха была поздняя — 18 апреля. На Пасху мне передали добрые мои друзья, что с Красной Вишеры вернулась одна женщина и привезла мне записочку от батюшки. Батюшка настойчиво просил меня непременно к нему приехать. Его сердце, вероятно, предчувствовало, что свидание наше будет последним. Получив записку батюшки, я бежала домой, от радости не чувствуя под собой ног, такой счастливой я себя сознавала. Я должна была приготовить свой богаж. Побежала купить себе корзинку для провизии, купила разных вкусных вещей, да и духовные дети наносили мне всякой всячины. Тронул меня владыка Варфоломей, который прислал мне на дорогу 50 рублей.
На вокзал меня провожали многие близкие мои друзья. Помню, как все были веселы, как все по-христиански радовались за свою матушку. Каждый посылал батюшке что-нибудь сказать или спросить. Я старалась все хорошенько запомнить. А некоторые написали большие письма, которые мне надо было дорогой прочитать и подробно пересказать батюшке их содержание.
В вагоне мне досталось очень неудобное место — боковое, наверху, около окна. Очень трудно было мне туда залезать, но на следующий день освободилось место внизу, и я туда перешла. Соседи были хорошие, услужливые, и я чувствовала себя всю дорогу под покровом Ризы Господней. Приехав к о. Леониду перед отъездом проститься, я получила от него указание — приложиться в его храме к Ризе Господней, и батюшка о. Леонид обещал мне, что Господь будет меня покрывать во весь мой путь, туда и обратно, Своей Пресвятой Ризой.
Вечером 9 мая поезд привез меня на станцию Усолье-Березняки. Мне помогли перенести вещи на пристань, и там мне пришлось просидеть всю ночь на открытом воздухе в ожидании парохода. Была холодная ветренная погода, временами шел дождь и мокрый снег. Я не могла нигде притулиться, чтобы вздремнуть, и то садилась на свои вещи, то начинала ходить взад и вперед по пристани, чтобы немного согреться. Тут я познакомилась с одной бедной-бедной матушкой, В.А. Копыловой, ехавшей так же, как и я, на Красную Вишеру — на свидание со своим мужем. С ней мы сразу сошлись и решили ехать вместе в одном купе. В шесть часов утра, наконец, пришел пароход и повез нас до конечного пункта нашего пути. Совершенно иззябшие, разместившись в каюте, мы напились горячего чаю и, укутавшись, как могли, потеплее, улеглись на диваны. Окно оказалось разбитым. Мы его, как сумели, загородили и поспали после совершенно бессонной ночи с большим удовольствием.
Целые сутки вез нас пароход по реке Вишере, и в шесть часов утра 11 мая мы приехали на пристань «Красная Вишера». Сойдя с парохода, я встретила одного только что освобожденного заключенного, от которого узнала, что, хотя многих здесь находившихся перевели в другие лагери, мой батюшка остался здесь. Не помню, этот ли человек или другой кто помог мне донести вещи до комендатуры, где мы стали ожидать осмотра наших вещей и получения права на свидание. Я чувствовала себя почти счастливой. Мне было как-то весело, когда стали просматривать то, что я везла. У меня был с собой пузырек с крещенской водой для батюшки, были и другие святыни. О святой воде, когда меня спросили, что это такое, я сказала: «Для вас это простая вода, а для меня она — святая, и я прошу вас мне ее оставить, она для меня — лекарство». Мне ее осталили. Но когда увидели мое Евангелие, его у меня отобрали, как я ни просила его мне отдать. Тогда я взяла с них слово, что они его мне вернут, когда я поеду обратно. Мне обещали. Потом взяли у меня деньги, дали расписку и, наконец, проводили меня в дом, где проходили свидания с заключенными. В комендатуре я написала заявление о предоставлении мне свидания с мужем. И дали мне свидание на четыре дня, так называемое «общее», т. е. по несколько часов в день, без ночевки, тогда как другим позволяли и ночевать.
Мой батюшка был перегружен работой, в то время он был табельщиком на пристани, откуда гнали по реке лес. Умывшись, приведя себя в порядок, одевшись получше, покушав и приготовив вкусный ообед на общей плите, я стала ожидать прихода моего батюшки. Однако в этот первый день ему не было передано разрешение на свидание со мной, и он ко мне не пришел. На следующий день я снова стала ждать его. Привезя с собой белые сухари, я намочила их в молоке, поджарила на русском масле, намазала принесенным кем-то из духовных детей вареньем и стала ходить около дома, но тщетно. Я ходила и все время молилась, вглядываясь вдаль и ожидая его прихода. Уставши от хотьбы, я приходила к своей койке, садилась для отдыха на несколько минут и снова начинала ходить взад и вперед. И вот, наконец, когда я, усталая, снова присела на свою койку, было часов пять вечера, вдруг отворилась дверь и показалась высокая худощавая фигура в желто-коричневом пальто — мой самый дорогой друг, мой батюшка!
Я услышала его слова: «Тут Четверухина?» Стрелой бросилась к нему я навстречу со словами «Христос воскресе!» и просила меня благословить. Батюшка отказался это сделать (тут были мои соседки, посторонние для нас люди), сказав, что тут он только заключенный. Как горько прозвучали его слова, как больно сжалось от них мое сердце! Я обняла его за шею и мы поцеловались. Я попросила батюшку сесть. Он, как был с своем поношенном, не по голове, маленьком картузе, сел на мою койку, а я присела к столу на табуретку у окна. Он сейчас же стал спрашивать о детях. Соседки с любопытством его рассматривали и некоторое время очень нас стесняли своим присутствием. Наконец, они по очереди удалились, за что мы были им очень благодарны.
Когда они ушли, батюшка сказал мне, что теперь он может меня благословить, и, сняв картуз, благословил. Мы заговорили. Я налила ему и себе чаю, подвинула свое угощение. Батюшка пил чай, кушал жареные сухари, а я, слушая его горький рассказ, не могла и глотка чаю проглотить — чай сделался холодным, не до него мне было в тот вечер, когда я наконец получила возможность сидеть возле моего батюшки и слушать его, и смотреть на его исстрадавшееся и сильно похудевшее лицо. Он был очень переутомлен. Приходилось с шести часов утра выходить на работу в свою хибарку на пристань, в восьмом часу к нему шли десятские, и заканчивал он только часов в десять-одиннадцать вечера. Глаза его были воспалены от недостатка сна и от пыли из-за сильнейших ветров — берег Вишеры покрыт мелким песком. А лицо его было красное — обветренное, как объяснил мне батюшка.
В течение шести вечеров, что мы с ним виделись (нам было прибавлено по просьбе батюшки еще шесть часов свиданий, и мы их разделили на два дня), батюшка рассказывал мне о себе многое. Каждый день он вспоминал что-нибудь недосказанное и пополнял им свою повесть.
Прожив с батюшкой более двадцати лет, я знала все его привычки, часто читала его мысли, угадывала желания. Он, бывало, только начнет что-нибудь говорить, а я за него докончу. И на Вишере, после полуторогодовой разлуки, мне казалось, что мы с ним не разлучались. Я, как и раньше, с полуслова его понимала. Это меня очень радовало. Вспоминались слова из канона на день св. Пятидесятницы — «Разлучения вам не будет, о други…» И теперь, когда батюшка скоро 15 лет как отошел к Господу, я не чувствую с ним разлуки, я точно продолжаю жить одной жизнью с ним. Я часто слышу внутри себя его ободряющий голос, когда переживаю какие-нибудь жизненные трудности: «Ничего, мамаша, ты у меня молодец». Так он мне, бывало, говаривал, живя со мной. И легче мне становится от этого. А если что я делаю не так, как надо, как хотел бы он, вижу во сне, что он где-то далеко от меня и больно сжимается от этого сознания мое сердце и во сне.
Батюшка говорил мне, что чувствует себя исколоченным, но не искалеченным. Прежде, когда жил со мной, он плохо помнил наизусть благодарственные тропари. Теперь же он их хорошо знает. Духовником его на Вишере был архимандрит Донского монастыря о. Архипп. Исповедоваться удавалось совсем в необычной обстановке: колют вместе дрова, например, и батюшка в это время исповедует свои грехи, а по окончании исповеди, о. Архипп положит на его голову свою руку и прочтет разрешительную молитву. А молиться, класть на себя крестное знамение и причащаться Св. Тайн можно было только лежа на нарах и закутавшись с головой одеялом.
С большой любовью вспоминал батюшка об о. Гаврииле, о его прямоте, за что его часто сажали за проволоку, и о его угощениях. Однажды в Прощеное воскресенье не было у батюшки ничего скоромного, а хотелось по православному обычаю заговеться. Грустный ложился батюшка спать в тот вечер. И вдруг чья-то рука просовывает к нему под одеяло две сдобные лепешки. Это добрый о. Гавриил получил посылку, вспомнил о своем друге и захотел его утешить.
Говорил батюшка и об окружавших его в последней роте добрых людях, приводя слова из послания апостола: «Друг друга честию больше себя творяще». Мыть полы должны были все по очереди, но соседи, уважая батюшку, освободили его от мытья полов — обязанностью его было только посыпать пол опилками и носить горячую воду для мытья (10 ведер в день).
Вспомнил батюшка ту первую ночь после ареста, когда его привезли в Бутырскую тюрьму. В комнате, или «собачнике» как ее называли, было столько людей, что негде было и прилечь на полу. Кто-то посоветовал батюшке лечь под нары. Залез туда батюшка, а пол-то весь заплеван. И вспомнились батюшке так любившие его духовные дети. Что бы они сказали, если бы увидели своего батюшку в таком унижении? И заплакал мой батюшка при таком воспоминании. Потом в Бутырской тюрьме нашелся добрый юноша — Андрюша Штерн. Он уступил батюшке свое место на верхних нарах, но оно было очень узко — всего одна доска, да еще около «параши».
Рассказывал батюшка, что шпана в тюрьме его обкрадывала. Сливочное масло, которое я ему послылала никогда до него не доходило: или растает в дороге, или испортится, или его украдут.
По приезде на Вишеру батюшка был определен на «общие» работы, т. е. на тяжелые физические. Сначала приходилось в сорокаградусный мороз копать землю, которая едва поддавалась только лому, затем пилить бревна, потом выгребать из под лесной машины опилки, а для этого — то и дело нагибаться к полу. И эта последняя работа настолько утомляла батюшку, что однажды он в изнеможении упал на опилки и не смог сам подняться. Его отправили в больницу, где он пробыл более двух недель. Едва только выписали батюшку из больницы, он должен был идти в командировку в Булатово, что в 54 км от Вишеры. А силы его еще не восстановились после болезни. Начальство, отправляя работать заключенных, обещало, что они пойдут с отдыхом и будут проходить лишь по 17 км в день. Но на деле вышло иное. Им пришлось сделать этот тяжелый переход за одни сутки. Была зима, и можно себе представить, что они, бедные, испытали, идя так долго по глубокому снегу в лесу. Один заключенный так выразился: «Я всегда любил лес, а теперь его ненавижу» — и погрозил ему кулаком. В конце пути батюшка, совершенно обессиленный падал на снег через каждый пять шагов, других же тащили под руки конвоиры. Наконец, поздно ночью доползли до Булатова. Для ночлего отвели пустую нетопленную избу с выбитыми стеклами. Лег мой батюшка на пол, и нечего ему было подложить под голову, нашелся только какой-то сломанный ящик. Ныло все тело, и холод сковывал все члены. Какой же сон мог быть! Пришло утро. Погнали всех пилить хвойный лес. Батюшка не знал, как и взяться за пилу — никогда он не был на такой работе. Снег был в лесу по грудь, и, прежде, чем начавть пилить деревья, надо было его притоптать. Батюшка стал объяснять начальнику, что он не может выполнять такую работу и просил дать ему канцелярскую. В ответ на это начальник стал язвительно говорить ему: «Ты опять филонишь. Я тебя еще на Усолье заметил. Ты и там все от работы отлынивал». А батюшка мой на Усолье-то и не был никогда, только мимо проходил. И пришлось ему, моему дорогому, покориться, и начал он вместе с другими валить лес. И катал он бревна до тех пор, пока не сломалась палка. Тут снова на него посыпались ругательства и клевета. Однако вскоре приехал другой начальник. Нужно было вести отчетность. Увидя батюшку, он его позвал: «Эй ты, очкастый, грамоте учился?» «Учился». «Арихметику знаешь? Будешь табельщиком».
На Страстной неделе приехало новое начальство и велело написать полный отчет о проделанной работе. Был Великий пяток. Всю ночь на Великую субботу составлял батюшка отчет, а приехавший начальник крепко спал тут же в избе. И вспоминал батюшка свой родной храм, стоящую посреди него св. Плащаницу и то, что мы, его родные, его присные, молимся вокруг лежащего во гробе Спасителя и поем над Ним погребальные песни. Не без воли Божией пришлось и нашему батюшке не спать в это святую ночь. Только к утру отчет был батюшкой окончен, а он был очень велик. Батюшка положил его на столе около спящего начальника, а сам где-то прикорнул и крепко, измученный, уснул.
К 1 мая батюшка вместе с другими заключенными вернулся на Вишеру. Вскоре послали батюшку на общие, очень тяжелые работы. Надо было, выполняя большое задание, с семи часов утра до одиннадцати вечера таскать по две толстых доски с берега на баржу. Это делали два заключенных. Чтобы успеть выполнить вовремя задание, на берег поднимались чуть ли не бегом. К концу дня плечи были до крови натерты, не было во всем теле ни одного здорового места — все болело. В первый день задание было выполнено на 100%. Однако на утро, когда заключенных снова послали на ту же работу, они сговорились таскать по одной доске — уж очень болели израненные плечи. К одиннадцати часам вечера было выполнено только 75%. Пришло начальство и стало приказывать закончить задание, а они сели на пенечки и целый час спорили. Однако пришлось уступить и заканчивать недоделанное ночью. Только в три часа ночи закончили, а в пять часов надо было вставать. У батюшки были в эту ночь необычайно тяжелые религиозные переживания. Ему казалось, что Бог его забыл, оставил. И в глубокой тоске он возопил: «Господи, Пресвятая Богородица, святитель Николай, я всегда вам молился, и вы мне помогали, а теперь, видите, я совсем изнемог, я готов умереть на этой непосильной работе, а вы меня забыли. Ну что же? Мне больше не просить вас ни о чем?» Лег на свои нары батюшка, спать не мог от сильной боли во всем теле и горько заплакал. Но к утру душа вдруг снова замолилась, смягчилось сердце, и снова явилась обычная преданность и вера в Промысел Божий. «Нет, Господи», — шептал он, — «хотя бы я и умирал в своих страданиях, я никогда не перестану молиться и верить Тебе». И тут произошло чудо. В шесть часов утра все пошли на перекличку, чтобы идти на работу, и батюшка ждал своей фамилии. Произнеся фамилию «Четверухин», начальник запнулся и вспомнил, что батюшку требовали в УРЧ для какого-то дела. Оказалось, что батюшка потребовался для написания отчета о работе в Булатове. Так как очень трудно было восстановить все факты, на это потребовалось несколько дней. Таким образом, Господь избавил батюшку от непосильной для него работы по погрузке досок на баржи. По Промыслу Божию трудная для него командировка в Булатово принесла ему и пользу — избавила его от тяжких трудов. Слава Богу за все!
Трудно мне сейчас отчетливо вспомнить, что и в какой день мне говорил батюшка. Он вспоминал то одно, то другое. Но, конечно, сначала он мне говорил о самых тяжелых переживаниях, а напоследок — уже о более легких, незначительных, а я старалась все запомнить. В первый день или, вернее, вечер мне особенно ярко запомнились наше прощание и разговор. В то время на Вишере были белые ночи. Часов около одиннадцати вечера я вышла, чтобы проводить недалеко моего батюшку. Было ясное, безоблачное, светлое небо, на далеком горизонте чуть алела заря. Стоя во весь свой высокий рост на фоне этого светлого неба, батюшка мне говорил, отчеканивая каждое слово: «Ты в своих письмах часто занимаешься совершенно бесполезным занятием — считаешь, сколько времени прошло со дня нашей разлуки и сколько еще осталось до моего возвращения домой. Я этого не жду. Я уверен, что в вечности мы будем с тобой вместе, а на земле — нет. Мне, вероятно, дадут еще 3 года. Здесь я прохожу вторую духовную академию, без которой меня не пустили бы в Царство Небесное. Каждый день я жду смерти и готовлюсь к ней». Батюшка говорил все это совершенно спокойно, но каждое его слово точно молотом тяжелым било по моему наболевшему сердцу, но я не возражала, я все это выслушала молча и только крепко запомнила его слова.
После подачи отчета за батюшку стал хлопотать протоиерей о. Гирский, тоже заключенный, чтобы определить батюшку на комбинат «Вишхимз». И хлопоты эти увенчались успехом. Батюшка был определен санитаром в больницу, но это была только одна из его многочисленных обязанностей. Он был и делопроизводителем, и регистратором, и еще много всяких обязанностей пришлось ему выполнять. Приходилось моему батюшке в продолжение почти восьми месяцев трудиться часто по шестнадцать часов в день без выходных. Одно только было хорошо: ему дали отдельный кабинет, где была печка, на которой он мог себе скипятить воду для чаю и около нее погреться. Да и приятно было быть одному, без народа. Все, начиная от самого главного начальника, а также врачи, сестры и санитары оценили батюшку как усерднейшего работника и как прекрасного человека и полюбили его. Но кому-то это было неприятно. Грубый завхоз, желая иногда уязвить батюшку, называл его «санитаришкой». Иногда выдавались особенно тяжелые дни, когда приходилось писать отчеты или подавать ставки. Батюшка был еще и секретарем на еженедельных конференциях по субботам.
Однажды на батюшку наклеветали, будто он участвовал в какой-то пирушке, и его арестовали, посадили в изолятор. Помещение было неотапливаемое, с выбитыми стеклами. Бегали крысы. Батюшке не говорили, в чем он виноват, а когда за него кто-то хотел попросить, ему ответили, что батюшка — величайший государственный преступник. В первый день в изоляторе, куда посадили батюшку, была одна только «шпана», и было очень тяжело, но на следующий день его перевели в особое, изолированное от других помещение. И там батюшка ожил и был даже счастлив. Он мог без боязни положить на себе крестное знамение, и, подобно Давиду, скачущему перед Ковчегом Завета, батюшка скакал от духовной радости. Тем временем началось следствие. Стали поочередно вызывать из больницы Вишхимза весь медперсонал и младший штат служащих и допрашивать о батюшке. И все как один давали самые лучшие отзывы о батюшке, так что изолятор послужил лишь на пользу батюшке — для вящей славы Божией и на посрамление его врагов.
В Вишхимзе с батюшкой работал художник Кирсанов. Он так привязался и полюбил батюшку, что написал его большой портрет. Жаль только, что он не успел его отделать — это было как раз перед изолятором за три дня. Этот портрет батюшка с позволения начальника отдал мне, сказав: «Возьми домой. Будете на него смотреть и меня вспоминать». И просил вделать его в золотую рамку, как рекомендовал Кирсанов. Я так и сделала и, глядя на батюшку, всегда вспоминаю его слова, сказанные таким грустным голосом.
Батюшка просидел в изоляторе (это было в конце января 1932 г.) 20 дней. По его словам, в изоляторе он обрел «мир души» — так говорил он своим друзьям, когда, спустя некоторое время он по каким-то делам шел мимо них. «Что, тяжело вспоминать?» — спросили его. «Нет, — ответил батюшка, — тут я нашел мир души». Обрящут покой только те, кто научился кротости и смирению. И батюшка научился этим добродетелям и обрел мир и покой своей душе. Когда я шла с батюшкой, все проходившие мимо почтительно сторонились при виде его. Было заметно, что батюшку уважают все, кто только его знал. Меня же многие называли «матушкой», даже из начальников, конечно, ради почтения к батюшке.
В Вишхимзе стало очень заметно отсутствие усерднейшего работника, каким был мой батюшка, которому можно было доверить любую запутанную и сложную бумагу, любой отчет. Он все выполнит как следует и заслужит своей работой похвалу и одобрение начальства. И стали из Вишхимза просить вернуть батюшку назад, несколько раз просили, но его не пустили. Вместо него был назначен человек совсем другого сорта. Вел он себя по-барски и кончал работать в пять часов вечера. Таким образом, отчет за январь был подан только в мае. И вообще, говорил мне батюшка, после его ухода из Вишхимза его работу выполняли восемь человек, а он один тянул эту лямку в продолжение восьми месяцев. Где же найдешь такого работника?
Вскоре многих заключенных стали переводить на общие работы, и только как исключительного работника по просьбе помощника начальника БВР — Н.В. Виссарионова батюшку устроили главным табельщиком. Но это была такая отвественная работа, что — или пан, или пропал, как сказал мне батюшка. Во время выполнения этой работы я и приехала на Вишеру. Батюшка работал до одиннадцати часов вечера, а с шести часов вечера приходил его помощник и работал всю ночь до шести утра — такая была горячая пора сплава леса по реке. Батюшка говорил мне, что это дело подходит к концу, и его просят уже на работу в двух местах. Недаром, когда он подал заявление о свидании со мной, начальник написал о нем в характеристике как об исключительно добросовестном работнике.
Когда я гостила на Вишере, батюшка уже пользовался хорошим столом как штурмовик и мог даже приносить мне кое-что из продуктов: хлеб, селедку и даже банку с мясными консервами. Приходил он ко мне в пятом часу вечера, я его ждала с обедом, мы вместе с ним кушали, пили чай, а затем гуляли по берегу Вишеры или сидели около дома на скамейке. Я ему рассказывала о его родных и духовных детях, передала ему все их просьбы. С какой отеческой любовью вспомнил батюшка о каждом своем детище, каждому просил передать его благословение и низкий поклон, говорил, что все они по-прежнему живут в его сердце, всех сердечно благодарил, особенно за любовь ко мне, его матушке. Он просил каждому отдельно сказать, что он его помнит любит и благодарит. Некоторым духовным детям батюшка велел со всеми их нуждами обращаться ко мне. Конечно, у него было определенное предчувствие, что домой он уже не вернется.
Батюшка рассказывал мне, что он видел в ссылке много унижений, перенес много обид, тяжелых работ, слышал клевету, насмешки, но в то же время видел уважение, внимание, любовь и нежную заботу как от единомышленников, так и от «шпаны» и начальства.
Как-то, гуляя с батюшкой по берегу Вишеры, я подняла с земли сосновую щепку. «Я возьму на память о твоем здесь пребывании и о твоей тяжелой работе», — сказала я батюшке. Точно кусочек его гроба я привезла с собой в Москву.
Все пережитое, все глубоко скорбное и тяжелое сделало батюшку еще более религиозным. Раньше он был религиозен более разумом, а теперь всей душой и всем сердцем полюбил Господа Иисуса Христа. «Нет Его краше, нет Его милей», — говорил он мне.
Когда я как-то заговорила о будущем, если все же он вернется домой, батюшка высказал свое желание: «Наверное, в Москве мне уже не позволят жить. Ну что же, мы с тобой поселимся где-нибудь в небольшом городке, и сыновья будут нам понемногу присылать каждый месяц. Авось и прокормимся мы с тобой. Господь не оставит нас». Батюшка говорил, что теперь он стал гораздо ближе к народу, больше понимает людей, и если вернется, то будет гораздо снисходительнее к ним.
Я замечала, когда мы с ним гуляли или сидели на скамейке, что как только батюшка увидит издали кого-нибудь из своих знакомых, он сейчас же начнет улыбаться, снимать шапку и приветливо кланяться. И все его знакомые также его ласково приветствовали. Как-то он, увидев в окно доктора С.А. Никитина, указал мне на него и назвал его «ангелоподобным». Этот врач был раньше председателем приходского совета в храме св. Николая в Клениках, где настоятельствовал о. Алексей Мечев. И привелось моему батюшке последнее время перед кончиной работать под начальством этого врача, быть ему помощником. С.А. Никитин потом был у меня и рассказывал о своем последнем разговоре с батюшкой накануне его трагической кончины. Батюшка сказал, прощаясь с ним: «Прохор Мошнин (преп. Серафим) так говорил: «Стяжи мир души, и около тебя тысячи спасутся». Я тут стяжал этот мир души, и если я хоть маленький кусочек этого мира привезу с собой в Москву, то тогда буду самым счастливым человеком. Я многого лишился в жизни, и уже не страшусь никаких потерь, и каждый день готов умереть. Я люблю Господа и за Него готов, хоть живой, на костер». На другой день слова эти сбылись — батюшка сгорел.
В первую зиму на Рождество батюшке было особенно тяжело оттого, что затеяли у них в роте антирелигиозный диспут. Батюшка нарочно лег пораньше на свои верхние нары, чтобы ничего не слышать, и покрылся с головой одеялом. Вдруг кто-то вспомнил о нем: «Тут есть поп, пусть он выступит на нашем диспуте». Батюшка сказался больным и решительно отказался выступать в обществе безбожников. Один Господь знает, что переживало его сердце, так горячо любящее Господа, слыша грешные словопрения.
Батюшка говорил, что благодаря физической работе мускулы на руках у него теперь крепкие и даже сердце его стало лучше — он может пробежать и не ощущает одышки.
Друзья выхлопотали, чтобы батюшку перевели в наиболее культурную роту, но воспитатель роты отнесся к нему очень грубо, сказав, что в ней только высококвалифицированные работники и что «санитаришке» здесь не место. Только кто-то из добрых людей успокоил батюшку и предложил остаться в этой роте. Слава Богу, отношение начальства понемногу смягчилось и воспитатель потом даже полюбил батюшку.
Батюшка говорил, что Вишеру можно рассматривать с трех сторон: 1) «шпана», пьянство, обиды, насилие, бесчеловечное отношение, побои, 2) целый сонм самых прекрасных людей и 3) с точки зрения того, как это все переживалось, отражалось и преломлялось в батюшке. Он всегда чувствовал милость и любовь Божию, дивный Его Промысел, и поэтому сам делался ближе к Богу и любил Его все больше и больше. Никакой внешней религиозности он проявлять не мог, но внутри, в душе, он стал еще более религиозным, чем раньше. Он говорил мне, что, живя на Вишере, он себя чувствует несколько подобным живущим в монастыре. «Ведь тут как раз упражняешься в тех добродетелях, которые требуются от монаха, когда он принимает постриг: полное отречение от своей воли, нестяжание и целомудрие». И действительно, на Вишере батюшка проходил новую духовную академию, более совершенную, чем та, которую он окончил перед принятием сана священника.
Мой приезд батюшка сравнивал с целебным бальзамом, с вином и елеем на его измученную душу. Я заметила у него в лице резкую перемену: когда я приехала, выражение его лица было горькое, а когда уезжала, оно было светлое, мирное, довольное.
Много мне рассказывал батюшка о своем житье-бытье, да всего и не вспомнишь. Когда он работал в Вишхимзе, ему пришлось однажды послужить одной больной. Она, туберкулезная, лежала в больнице, была очень плоха уже, и захотелось ей перед кончиной исповедаться и причаститься св. Тайн Христовых. Но как это сделать? Она заключенная. Батюшка помог ей. Он пришел к ней как санитар, долго с нею беседовал, исповедал ее и даже причастил св. Тайн. Нельзя передать того счастья, которое испытывала эта страдалица. Вскоре она мирно скончалась, и родным удалось над ее могилой поставить крест. Там же был похоронен и иеромонах Антоний (Тьевар), бывший ученик проф. И.В. Попова. Обе эти могилы украшались с любовью.
17 (30) мая батюшка был у меня в последний раз. И хотя мы с ним обо всем уже переговорили и простились, ему хотелось придти на следующий день на пристань, чтобы увидеть меня еще раз. Рано утром нам велено было уложить вещи и идти. Однако перед отбытием снова надо было пойти в комендатуру для осмотра вещей. Сначала перечисляли фамилии тех, у кого окончилось время свидания. В комендатуре не задержали. Пересмотрели вещи, вернули деньги. Я попросила вернуть мой Новый Завет, но оказалось, что тот человек, у кого он хранился, ушел на пристань. «Вы там его увидите», — сказали мне. И действительно, я его встретила на дороге, недалеко от пристани, и очень просила его с кем-нибудь прислать мне мою книгу. Спасибо этому человеку, он не забыл моей просьбы, кто-то мне передал мой Новый Завет. Меня тронуло и то, что он просил найти на пристани «матушку» и ей передать. День был ветреный, холодный. Я то ходила по пристани, то уходила внутрь помещения погреться и все ждала моего батюшку. Он не приходил. Я боялась, что больше уже не увижу его. Часов в шесть вечера пришел пароход, началась посадка и тут вдруг, когда я уже с вещами поднималась по мосткам на пароход, увидела знакомую фигуру батюшки. Он шел по берегу. Забывши все, я бросила на мост вещи и побежала навстречу. Я забыла, что мой батюшка уже не имел права на свидание со мной сегодня и, обвив его шею руками, поцеловала его, говоря: «Я все-таки поцелую тебя в последний раз. Прощай, мой дорогой». И тут же оторвалась от него и так же быстро побежала обратно к вещам. На берегу стоял кто-то из начальников и видел наше прощание, и, как я узнала позже, дали батюшке дня на три изолятор. Но тогда я этого не знала, я простилась с ним… до будущей вечной жизни.
Батюшке разрешили остаться на берегу от отхода парохода. Я устроилась в каюте, кому-то из соседок поручила присмотреть за моим багажом, а сама до последней возможности стояла на борту парохода и смотрела на батюшку. Изредка мы с ним переговаривались. Я его ободряла, говорила, что его скоро отпустят, что он вернется домой. Он был совершенно спокоен, лицо мирное, совсем не такое, как когда я его увидела в первый раз. Наконец, раздался резкий продолжительный гудок, сняли канаты, пароход, чуть колыхаясь, стал медленно отчаливать от пристани. Я крикнула моему батюшке: «Уповай на Господа, уповающего же на Господа милость обыдет…». Больше уже ничего нельзя было ему сказать — он не услышал бы. Все быстрее и быстрее шел наш пароход, расстояние между мной и батюшкой становилось все больше, а он делался все меньше. Приходилось напрягать зрение, чтобы яснее видеть черты его лица, его фигуру в желтом пальто. Наконец, уже она стала совсем маленькой. Вижу, что батюшка повернул от пристани и пошел по берегу, и больше его не стало видно. Я перекрестилась сама, перекрестила издали его и, сказав: «Слава Богу за все», вернулась к себе в каюту.
Там я нашла своих спутниц горько плачущими — они тоже простились со своими мужьями. Я не плакала. Глубокий мир сошел на меня здесь, на Красной Вишере. Я все отлично сознавала, но слез у меня не было, а была полная преданность воле Божией и глубокая вера в Его св. Промысел. Как могла я стала утешать бедных женщин и вскоре достала из сумки приготовленную чистую тетрадь и стала записывать в нее все, что пережила, что видела и что слышала. Не буду описывать приключений в дороге, а расскажу только о том, что я пережила, проезжая мимо моей родины — г. Ярославля. Мимо него мы должны были ехать ночью, часов в двенадцать. Мне хотелось хоть через окно увидеть этот родной мне город, о котором так много рассказывала моя мама. Долго я боролась со сном, но не выдержала и заснула часов в одиннадцать вечера. И увидала во сне, что наш поезд замедляет ход и едет по мосту через широкую реку, мимо ярко освещенных улиц. Я спросила кого-то из пассажиров: «Что это за город?» Мне ответили: «Ярославль». Едва остановился поезд, я соскочила и пошла по улице. И вижу: стоит большая карета и шестерка лошадей, точно как у нас в Москве возили в такой по городу Иверскую икону Божией Матери. Я кого-то спросила: «Кого возят в этой карете?» Мне пояснили, что в Ярославле особо чтут икону Знамения Божией Матери как чудотворную. Вот ее-то и возят по домам. И вдруг я увидела очень близко перед собой на воздухе мою родную иконочку — тоже Знамение Божией Матери, которою благословил меня мой крестный отец после таинства св. крещения, положив ее мне на грудь. Я тотчас же проснулась и, вскочив на ноги, подбежала к окну. поезд замедлял ход, ехал по мосту, видны были ярко освещенные улицы. Все, как во сне. Это был Ярославль, моя родина. Вспомнился мне только что виденный мною сон и поняла я, что Царица Небесная снова берет меня под Свой дивный Покров. Она не забыла меня и не оставит особенно теперь, когда я снова в разлуке с моим мужем. Покров и помощь Божией Матери я постоянно чувствую на себе и на моих детях и внуках. Она — неложная, Она — верная наша Покровительница, Она особенно жалеет всех вдов и сирот.
Все это было пятнадцать лет тому назад. Много воды утекло за эти годы, много пришлось пережить горя, потерять мужа, сына, но не оставляет меня Своей помощью Матерь Божия и, верю, не оставит до конца. Она дает мне силы, бодрость духа, Она дает мне пищу и духовную и материальную. И вот, живу я уже 64-й год на свете. Буди имя Господне благословенно отныне и до века.
Аминь.