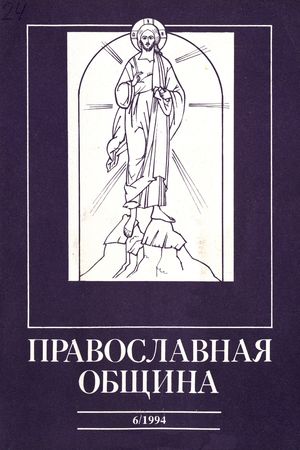Письма
ДОРОГОЙ О. АНТОНИЙ! Ваше письмо воистину меня тронуло, но что я Вам напишу? Прежде всего, Вы уже знаете, что я всегда делал бы руководствоваться только своими душевными настроениями в согласии со своей совестью, Христом и Церковью.
Рост моей души и рост других душ для меня главное: всякие частные, хотя бы и грандиозные практические цели для меня важны постольку, поскольку они вытекают органически из возвышенного настроения роста в Бога.
Я не стану даже называть это своим теоретическим взглядом. Это просто требование моего духа. Я опять употребляю здесь нелюбимое Вами слово: иначе я не могу. Совесть и сердце одобряют это, говоря: ты и не должен иначе…
Заботясь, главное, об единении с Богом и со Христом, стараясь постоянно об одном, как бы под благодатью Христа гармонически развивать свою душу и беречь свое настроение в сношениях с людьми, желая только и в них возбудить хоть искру любви к Богу, я на все частное решительно не могу обращать полного внимания.
Задаться целью написать скорее магистерское я не в состоянии. Односторонне погрузиться в теорию, отвлечь свое внимание от процесса божественной жизни, совершающейся во мне, отвернуться от людей, жаждущих Бога,—и все это ради неизвестно чего… А затем скомкать диссертацию, выйти защищать се против совести, спешить и волноваться ради частной и сомнительно-полезной цели—для меня невыносимо и невозможно.
Я окончательно хочу жить ради Бога, Который открывается внутри, жить во что бы то ни стало, не сворачивая ни вправо, ни влево. Ради этого сейчас приходится пожертвовать академией,—и с радостью жертвую. Придется после пожертвовать и еще чем-нибудь—и все с восторгом брошу, но свой мир и своего Бога не променяю ни на что.
Вы говорите: какие планы у меня? Собственно никаких. Я не знаю, что будет дальше… Бог покажет. Только бы не изменять себе и Ему… Вы спрашиваете, какие же наши планы ближайшие и отдаленные?
Дорогой о. Антоний, что дуто, то непрочно. Тормошишь, суетишься и чувствуешь, что двигаешь мертвые тела. Наэлектризовать их можно, но стоит ли это делать? Нужно воскрешать, но на это нет сил: сам мертв. И вот это сознание, это ощущение заставляет с иронией относиться ко все затеям, пока они затеи, то есть пока они не вырастут сами из свободного одушевления людей под влиянием личности, вдохновленной Христом… Вы понимаете, о чем я говорю. Нужно не строить, а создавать. А создавать может только тот, кто всецело во Христе, чьи взоры неподвижны и чье сердце неизменно, в ком нет и тени самолюбия, славолюбия и человекоугодия…
Я, конечно, этим нимало не возражаю против Ваших планов. Вы верите в свои практические силы, и, следовательно, делаете все, что возможно, и это будет по совести. Я могу только от всей души радоваться и вместе с Вами торжествовать. Может быть придется когда-нибудь быть и участником в Ваших планах, ради моей глубочайшей любви к Вам. Но самостоятельно идти по этому пути я не могу. Это смешно и грешно. Залезать в чужую шкуру для меня бесполезно, а для внутренней жизни безусловно вредно.
Я обязан, я должен идти по внутреннему пути, а внешний мой путь пусть определяется Богом, сообразно обстоятельствам. Это не мое дело. Назначат ректором—пойду. И там буду блюсти себя и работать Богу без компромисса, даже самого малейшего. Нельзя служить—уйду. Вот моя политика. Это не будет пассивностью. Напротив, если я сознаю, что то или другое назначение будет вредить или моему физическому или психическому здоровью,—я не пойду. Я повинуюсь Богу. Он куда-то ведет меня. Он говорит мне в той гармонии духа, которую я ощущаю в себе. И что нарушает ее, то безусловно—грех.
То, что Вы сейчас называете непослушанием, отказ писать магистерское—то, что другие могут назвать ленью и расслаблением,—то для меня просто нравственная необходимость не оскорблять внутренней святыни никакой спешностью, деланностью, сделкою…
Я не бегу из академии, но, чтобы остаться в ней, спешить с сочинением и изменять совести и настроению—этого я не смею и не могу. Если бы без этого, я с радостью остался бы здесь: мне здесь прекрасно. Правда, климат худ, но по своему оптимизму я и это перенес бы как-нибудь. Но раз приходится уходить, чтобы не изменять себе и Богу, я, конечно, придаю большое значение и здоровью и вижу в этом благодающую руку Божию…
Что здоровье падает, это несомненно, и Питер несомненно этому виной. Но все же по совести я должен сказать, что гигиеническая цель не главный мотив. Если бы была даже и Италия здесь, то все-таки я не стал бы спешить куда-то в сторону, сломя голову.
Вот, мой возлюбленный о. Антоний, главный пункт моего теперешнего настроения. Сумел ли я наметить Вам его—не знаю…
+
4 марта 1887 г. …Ваши возражения мне насчет эвдемонизма и т. п. покоятся на том недоразумении, что будто для поддержания душевной гармонии не требуется часто большого усилия воли. Я не защитник пассивности, как Вы думаете. Я признаю необходимость активности, но только чтобы она была направлена к верной и настоящей цели—на водворение в себе Христа. Для внешних же целей я не намерен тратить активность. Раз они не требуются совестью или даже нарушают хотя частью ее гармонию.
Для неверного жертвовать верным—не должно. А спешить подделывать науку,—как ни вертись, это сделка с совестью, Ваше сравнение с нищим, которому нужно подать милостыню, хотя бы я был погружен в глубокое размышление, не идет, потому что подача милостыни именно и требует душевной гармонии, в противовес односторонним глубоким размышлениям. Это против Вас же.
Нет, дорогой мой, не разубеждайте меня. Я иду туда, куда ведет меня Бог по дороге, мне предназначенной. Ни повернуть, ни изменить я не в силах. Ничем посторонним и внешним не могу развлекаться и увлекаться. Все придет само собой, если будем ежемгновенно стараться об одном: как бы не затмить в себе Христа, как бы привести к Нему других… Поймите, что для меня может быть только одна цель, и к ней не могут вести никакие внешние средства.
Вы говорите: ради великого нужно решиться на средство—диссертацию. Но вопрос: великое ли выйдет? Я не верю во внешние планы, простите. Я уверен, что когда у вас чрезмерный избыток энергии придет в равновесие сил, Вы согласитесь со мной и пойдете царским путем органического роста души во Христе, не отступая ни на йоту и направляя на это всю свою активность…
+
20 марта 1887 г. …В самой службе находишь силу, особенно в литургии. Чем более втягиваешься внутренне в Таинственный и Благодатный организм Церкви, тем более находишь сил, радости и обретаешь глубочайший мир, тем более переживаешь противоположность Церкви и мира. Мало мы сознаем эту противоположность, и поэтому так мало во многих из нас бодрости и ясности духа… Все смешалось, все обмирщилось, в этом тумане и мгле не находишь врага и не отличишь своего…
Насчет разницы земли и неба я совершенно согласен и как раз это входит в противоположность Церкви и мира. Но это не значит, что нельзя влиять выше других по избранию Божию. Нужно лишь предаться Христу и тогда каждый пост будет Его велением, и тогда иная постановка дела; тогда и авторитет у места, даже в Церкви.
+
29 марта 1891 г. Вот Вы пишите: «как жизнь академии далека от нормы». Но разве может быть норма, когда все идут врозь и среди профессоров, и среди студентов? Норма может быть только там, где есть единое живое дело, единая живая цель, где общий труд и объединяющее всех чувство. Раз этого нет—какая же может быть норма? Где рассыпавшийся индивидуализм, там ее не может быть никогда. Вы пишете: «Разве это требуется от преемников апостолов, чтобы они не пили и не скандалили?».
Но… дайте живое дело, дайте могучий толчок, сплотите в одно живое целое—хоть немногих, и конечно, найдутся силы и люди, приближающиеся и к званию апостольских преемников. Мы вялы, мы скучаем, пьем, скандалим, утомляемся потому, что нет увлекающего нас общего дела. Как бы идея ни была велика, как бы частные пути ни казались великими,—все это может поглотить только тогда, когда поглощается в живом организме людского общения.
Самая сила идеи, самая высота ее именно обнаруживаются и ценятся постольку, поскольку она могла сплотить людей. В Церкви может быть только то, что дает живую связь людям, приобщая их к организму Христа. А кто и что теперь дает эту связь, кто из студентов ее видит? Они видят личностей, их доброту, их злобу, их формализм или отзывчивость, их ум или глупость, их косность или неутомимую инициативу,—но они не видят самого главного—органической связи общего, целого, которое могло бы их поглотить и возродить. Они не видят, потому что этого и нет. А нет почему? Потому что никто не поглощен Христом настолько, чтобы забывать о себе.
Кто достиг этого, хотя в ничтожной степени, тот проявит организующую внутреннюю силу, которая свойственна Христу… Так созидались монастыри, так созидались всякие христианские общины, всякие христианские движения…
Если с этой точки зрения посмотреть на нас самих, недостойнейших служителей Церкви, призванных, однако, к великому делу, порожденных в великую минуту, то получится впечатление ужасное… Мы не только все рассыпаны и рассеяны внешне, но и внутренне-то мы все из периферии. Даже лучшие из нас не имеют внутренней силы сказать: «Так говорит Господь», или: «Так повелевает Церковь». Никто из нас не призван еще Господом. Никому Он не открыл прямой Своей воли, Никто не может еще с дерзновением слышать и передавать Его голос, несущийся по живому телу Церкви… Мы что-то чувствуем, что-то шевелимся, волнуемся,—но это даже пока еще не лепет, имеющий в себе органический задаток будущего ясного раскрытия блага…
+
1893 г. Дорогой о. Антоний, с большой радостью получил Ваше письмо. Храни Вас Господь за братскую любовь и память. Ваши «письма к пастырям» читал с искренним удовольствием и полным сочувствием. Вы знаете, что я говорю правду. Так скажу Вам, что ни одна Ваша статья не была так близка нашему сердцу и уму, как эти письма. Прекрасно это жизненное противоположение мира Церкви миру земли. Всеми силами на этом нужно настаивать в настоящее время.
Прекрасно изображение брачной радости пастыря, венчающегося своей Невесте—пастве. Внутренний Ваш огонь передается душе, и я наслаждался. Прекрасно указаны методы и способы влияния на разнородного умственного и нравственного склада людей… Только одно могу сказать, что у Вас мало оттенено то, что Вы имеете в виду методологию пастырского делания…
Вы справедливо говорите, что надо входить в настроение, в мысли пасомых и от них уже возводить их ко Христу, к Церкви, что тут догматические и канонические споры ни к чему не приведут. Но посмотрите на пастырей, как они есть. Но разве они уж этим особенно страдают—ревностью по догматам и канонам? Не смотрите на проповеди—это официя, не смотрите на споры—тут берется то, что есть под рукой, что легче, привычнее…
Разве мы мало знаем пастырей, готовых спуститься с пасомыми в какие угодно дебри их мыслей и сомнений, но ничуть не умеющих ни себя, ни их вновь возвести в свет церковной тишины? Ведь может случиться, что мы, ловя овец, сами запутаемся с ними.
Я Вам скажу, что это весьма возможно при современной постановке не только религиозного воспитания и образования, но и самой постановке христианской догматики, этики и всего остального.
Пастырю необходимо сойти к пасомым—Вы правы, но есть ли с чего сойти? Вот вопрос и может быть главнейший. Сойти не значит смешаться; Вы сами говорите о противоположности мира Церкви миру земли. Но есть ли эта противоположность на деле? Вы сами говорите, что пастыри портят себе дело, принимая светские обычаи. Но они принимают потому, что не имеют своих, утратили великие христианские традиции. И, конечно, нужно всячески пожалеть об этом.
А что, если уходя в мир земной мысли, мирских заблуждений и искажений, мы также забудем и потеряем то, что в нас держится почти одной традицией мысли?
Выходить из христианской любви, из сострадания—хорошо, но все же нужно и что-нибудь определенное, иначе в этом беспредельном мире можно заехать и ко вражескому берегу, принявши его за свой, и при незнании своего это весьма возможно.
Да, возлюбленный о. Антоний. Вы берете одну сторону дела и рассматриваете правильно и прекрасно. Но не нужно забывать и другой. Кроме методологии и педагогики, есть и психология, кроме пастырского делания, есть еще и пастыри с их содержанием.
И если это содержание не будет противоположно миру со всех сторон, и по мысли, и по чувству, и по воле, то тогда опасно идти на ловлю овец. И ловить-то нечем, и отгонять-то не во что. Может случиться, что они сами загонят нас в свои насиженные берлоги… Скажите, где здание, куда мы можем сгонять овец? Эти овцы весьма часто мыслят, куда вы их приведете. Эти овцы жаждут—где источник?
Выскажете: все в пастыре… Вот то-то и дело, что нет. Они в пастыре, если он весь в Церкви. А возможно ли это теперь при нашем воспитании и образовании, при нашей обмирщенности всего нашего строя? Всего нашего существа? Ах, все это прекрасно, что Вы пишете, и храни Вас Христос за то, что так хорошо пишете, но зло глубже, зло требует больших подвигов, больших страданий… Именно отделить Христа от мира и уже Отделенного приблизить к миру—вот что нужно. Нужно уйти от мира и затем прийти к нему.
Вы говорите о последнем, а не о первом, больше всего, как и должно быть по вашей теме. А между тем, главнейшее-то первое. И это предполагается пастырством, оно и должно предшествовать последнему. Сколько ни говорите о пастырстве, раз нет превознесения над миром, сознания жизни, того сознания, что мы совершенно противоположны миру во всем, решительно во всем, тогда ничего не выйдет, и ловля овец будет игрой в жмурки со стадом.
С Вашей главной тенденцией я безусловно согласен и слава Богу, что высказали се во всеуслышание. Безусловно, правда, что спасение есть приобщение Божественной жизни, которая есть любовь, и что спасение без любви невозможно. Даже как-то странно, что приходится утверждать и доказывать эту очевиднейшую истину.
Вполне сочувствую, что Вы говорите прямо и даже резко против извращающих идею спасения. Это расшевелит их, растревожит.
Вообще предполагаю, что Ваша статья должна зажечь споры, и так как вопрос поставлен ребром, то споры должны принести пользу, и они во всяком случае для нашей религиозной жизни полезны, даже необходимы. Вы отлично сделали, что написали, я даже примиряюсь с тем, что Вы поместили статью в «Вопросах», хотя я враг всякой рекламы и может быть дохожу до крайности, но такая статья должна действительно рекламироваться, потому что ее главное значение «в возбуждении», «в зажигательстве». По крайней мере я так думаю по первому впечатлению. Центральная идея тверда, но Вы на пути затрагиваете многие другие вопросы, которые непременно возбудят сильные возражения.
Во-первых, Вы мало дали значения послушанию в вере в Бога, как пути к любви, а этот путь исторически откровенный. Второе—Вы слишком резко до нарушения отметили узкость людей, говорящих о спасении своей души. Не забудьте, что они противополагают это спасение «общественному благу», понимаемому во внешнем, часто не христианском смысле; и многие из них ничего не будут возражать против долга спасать другие души, спасать любовью, но только понимаемою ими в более отвлеченном неземном смысле…
Не забудьте, что в народном сознании спасение души тоже на первом плане. Вы хорошо бичуете и литераторов и ханжей, но важный пункт требует более беспристрастного рассмотрения.
3) У Вас можно найти склонность к независимой морали помимо милости Христа. Вообще Христос у Вас отодвинут как личность.
4) Вылазка против мистического отношения ко Христу может быть перетолковываема очень неблагоприятно.
5) Что та, загробная жизнь не есть юридическая только награда или наказание—это безусловно верно, но предполагать, что та жизнь есть просто продолжение этой без всякой коренной метаморфозы—это тоже рискованно.
Мы не можем туда перенести никаких законов пространства и времени, дробности наших душевных сил и проч., уже само слово «вечность» показывает на нечто не количественно только, но и качественно различное, и с этим придется считаться.
6) Я не говорю о понятии «общественного блага». Вы пиелит, что об этом будет статья вторая. А то теперь неясность этого понятия дает ложное освещение многим Вашим статьям. Напрасно Вы, пока его не выяснив, не заменяли его словами «любовь к ближним».
7) В отношении сектантов Вы примите во внимание, что их протест вытекает иногда, а может быть и часто, из той же эгоистической горделивой мысли о спасении помимо любви и снисхождения, о которой Вы говорите так хорошо.
Много как будто еще чего-то собиралось в голове, чтобы сообщить Вам, но и так довольно. А в общем я от всего сердца рад Вашей статье и благодарен Вам. Она зажжет—это наверно. А это очень важно. Напишите, как отнесутся к статье наши блюстители благочестия…
Вот еще: неосторожно молитву причислять к сентиментальности, неправда это полная. Еще неправда, что отшельники оставляли мир на время. Мне кажется, что Вы мало даете значения молитве, как ОБЩЕСТВЕННОЙ силе. Поэтому Вы и боитесь сказать слово за уединение. Общественное благо, пожалуй, и Вы склонны почитать более внешне, чем следует. По-моему, никакой тут грани нет, а все вместе.
+
14 марта 1893 г. Дорогая моя А.Ф.!
Сперва о деле. Относительно излишка в службах у нас, сверх Вашего ожидания, я часто с Вами согласен. Конечно, лучше бы поменьше, но посознательней, поинтенсивнее в чувствах. Но только смущаться особенно нет оснований: во-первых, это нельзя назвать идолопоклонством, потому что ведь Христос разумел тех, кто полагает значение в многочисленности молитв, так сказать, именно в ней видит заслугу. В Церкви этого нет. Умножение произошло чисто исторически, и всякий Вам скажет, что одна кратенькая молитва, сказанная от всего сердца, стоит всех молитв, произнесенных механически. Значит, об идолопоклонстве не может быть и речи.
Во-вторых, примите во внимание, что все наши службы, кроме литургии, носят монастырский характер, взяты из монастырей. Там они были совершенно уместны, потому что там все усилия были направлены к поддержанию постоянного молитвенного настроения.
Если же мы до сих пор не приспособили монастырского строя молитвы к своей обыденной жизни, то это потому, что наша светская среда совершенно разорвала связь с Церковью и нарушила ее правильный рост; поневоле пришлось закостенеть на древнем и заимствованном.
В-третьих, я обратил бы Ваше внимание на то, что многочисленность молитв имеет свою хорошую сторону и для мирских людей. Дело в том, что мы страшно рассеяны. Дайте нам коротенькую молитву, и мы через несколько дней будем произносить ее без внимания и, так как по правилам все будет ограничиваться ею одною, то мы собственно останемся без молитвы. Теперь же сквозь всю суету мы берем несколько фраз, несколько мгновений, когда сможем помолиться… В одном месте мы прозевали, вдруг то же повторяется в другом, и мы уже слышим.
Я сам знаю по себе. Я читаю утренние молитвы. Их несколько. Я рассеян. Но все же, прозевавши одно, я воспринимаю другое; часто вдруг глубоко действует то, чего прежде и не замечал. Судя по логике, одна молитва повторяет другую и, следовательно—излишек. А судя по живому опыту—это благодетельно, потому что не здесь, так там вдруг придешь в себя и помолишься.
Так и в церкви. Часто стоишь болваном долго и вдруг очнешься, и как хорошо чувствуешь, слыша, что повторяется то, что уже было… Если это рассеяние бывает у более или менее удаленных от жизни людей, то что же сказать о мирских. Сделайте богослужение только из молитвы Господней и поверьте, что кроме вреда ничего не выйдет; и те несколько мгновений молитвы, которые встречаются сейчас, пропадут… А что нужно делать все более ясным и понятным, читать раздельно и со смыслом—это само собой разумеется. Кто же это может опровергать…
Так, видите, карающей речи не оказалось… Относительно сомнений вообще не тревожьтесь. Любите Христа, любите Бога, любите людей, будьте готовы признать всякую истину, раз Ваше сердце, Ваша совесть признают это за истину и больше ничего,—все остальное само собой придет.
Пагубен излишний консерватизм, упорное отстаивание своего во что бы то ни стало, гордое противление всему, что не от меня. Вот это опасно. А раз мы с любовью ищем правду, не размышляя о своей персоне и о ее непогрешимости, то сомнений нечего бояться… Для такой души впереди свет… Да и что останавливаться на сомнениях. Сомнения всегда появляются в пустых промежутках души. Когда любишь, когда работаешь во всю мочь—до сомнений ли тут. А ведь любить и работать ради любви и Христа—это может и не подлежать сомнению.
Что касается Вашего чтения моих писем М. И. и П. А.—то никак не возлагаю на это надежд. Для Вас я живая личность. Вы читаете не слова, а мою душу, мое сердце, моего внутреннего человека. Для них мои письма только слова и мысли. А в религиозных вопросах это очень и очень недостаточно, почти ничего… Впрочем, может быть, какая-нибудь мысль и западет в душу и может быть при случае окажет услугу. Я во всяком случае рад всякому добру…
Ах, дорогая моя, у Вас тоска по деятельной работе, и у меня тоже. Вы тяготитесь аристократическим бездельем, в сущности, и я тоже. Право, мне становится иногда очень тяжело и стыдно. Я столько поглотил в себя и ничего не произвел. Мне хочется черной, непосредственной работы.
Я чувствую, что все-таки довольно значительный запас мыслей, чувств, взглядов я должен применить к непосредственному делу. Даже книга меня не удовлетворяет. Я не вижу живого повода к ней… Мне нужна жизнь, и я сейчас стал бы реагировать на нее для Христа всем запасом моих сил. Создалась бы и книга, но она имела бы жизненную основу: каждая строка в ней была бы по непосредственному требованию жизни. Книга составилась бы из актов моего долга по отношению к личностям. А теперь все как-то неопределенно: не знаешь, кому пишешь, и потому нет крепкого чувства жизни… У меня теперь много личной переписки. И я рад этому. Все же знаешь, кому пишешь, имеешь живую конкретную цель. А там напишешь неизвестно кому…
Да, христианская деятельность непременно должна иметь дело с жизнью, а книги имеют смысл только настольно, насколько они результат жизни… Господи, сколько надумано. Кажется, и во всю жизнь не представится повода высказать все… Нет, очевидно, скорее нужно браться за жизнь, будет барствовать… А впрочем, и тут Бог…
Дай Господи и Вам устроить дела по совести…
+
Дорогая А.Ф. Вы пишите с негодованием о современном обществе. Я совершенно его разделяю. Его разложение и нравственное и умственное идет все нарастая. А еще что будет из этой молодежи, которая ведь ничему не училась и, вероятно, а впрочем не знаю,—и теперь не учится. Но только я не согласен с Вами, когда Вы ставите это разложение в какую-то связь с религиозностью, что Вы разумеете под ней? Торговлю благочестием из-за куска хлеба? Маску ради честолюбия? Моду обезьян? Зуд на всякую новинку? Если да, то, конечно, Вы правы: теперь религиозности больше. Или может быть благочестие одного или двух высших представителей государственной власти? Но благочестие и религиозность не проводятся на бумагах. Они в сердце и в жизни: а бумаги—это мыльные пузыри; они создают пустой призрак религиозности, не более…
Или, может быть, Вы разумеете тот факт, что как будто стало больше интереса к религиозным вопросам? Но искания еще не есть религиозность… потому и ищут, что остались без принципов; и пока ищут лучшие, худшие пользуются и мошенничают без всякого зазрения совести. Да и какая совесть, когда никто не знает, что истина, что добро, что зло…
Или, может быть, Вы разумеете пробудившееся в сердцах средней интеллигентной публики тоскливое стремление к вере? Но это и произошло именно потому, что старые идеалы потускнели, не удовлетворяют, а новых нет, а живется худо, и чем дальше, тем хуже… Когда хуже, тогда и обращаются чаще всего к вере… Я ставлю современную «религиозность» и разложение в такую связь: старые крепостные основы общества рушились; новых основ нет; государственность начала рушиться, и вот крики о религии, о вере как об основе государства; отсюда все циркуляры, все заботы о благочестии, но это крик… не более.
Интеллектуальное развитие нашего общества очень слабо; в шестидесятых годах мы просто приняли на веру то, что нам казалось последними выводами западного просвещения, Это была мечта, вера, порыв… Конечно, он долго держаться не мог. Вступивши в жизнь, он сразу обнаружил нашу действительную дикость. А тут и сама Европа оказалась уже не такой непогрешимой, как мы воображали… И вот почти детски прямолинейные теории и мечтания рушились. Новых основ нет; мы решительно неподготовлены ни к каким творческим трудам, мысли; мы рады бы опять ухватиться за Европу, но она сама разлагается на миллионы воззрений… И вот крики о принципах веры, об искании новых религиозных основ. И тут кажущаяся религиозность мысли явилась уже вслед за разложением.
Тот же процесс и в жизни чувства. Разочарование, уныние, тоска закрались в души тех, кто когда-то горел огнем одушевления. Где результаты? Где плоды? А в душе неудовлетворенность, разлад… И вот опять на помощь кричат: «Веру, дайте нам веру. С ней, наверное, легче». Эти крики собственно в каждой интеллигентной семье настоящего времени. Конечно, это великого значения факт… но разве это религиозность? И разве она может служить основанием упрека: вот все становятся религиознее, а жизнь все хуже и хуже. Где же сила вашей религии? Отчего же бессилие? Да оттого, что это и не вера. Это только тоска опустевшей и разочарованной, а часто и истерзанной души.
Во всяком случае, и в государстве, и в обществе, и в мысли, и в чувстве религиозность является только той соломинкой, за которую хватается жизнь. Соломинка не виновата, что мы тонем, и странно было бы винить религию в нашем разложении.
Вот когда испытания, несчастья, может быть великие, потрясающие, очистят нас, взволнуют до той глубины духа, откуда идут все творческие силы, когда религия будет для нас положительной силой, когда мы сможем уверовать в ее возрождающую силу, когда мы будем вполне готовы отдать за нее свою жизнь—вот тогда религия возродит нас… А теперь, какая у нас вера? Мы не знаем, во что и верить. Иные готовы лампадки зажигать, а завтра—полегчает—готовы и Бога побоку. Разве это вера? Разве это тот огонь, что прожигал сердца святых? Разве мы понимаем, чувствуем, что значит новая жизнь, новая радость, в сравнении с которой вся земная жизнь—ничто.
Если та ВЕРА действительно спасла мир, то наша «вера» только проблеск, звук… не больше… Нам нужно еще до нее дорасти… Может быть, нашими несчастьями… Наша мысль так плоска, наше сердце так мелко, что действительно мы не в силах воспринять удивительнейшее, несказанное, истинно-божественное величие христианства…
Ах, я в это время читал и перечитывал всего Шопенгауэра. Боже мой, насколько великая душа этого атеиста (так он сам себя называл) ближе подходит к христианству, чем наши доморощенные философы, кричащие по-видимому о Христе и православии… Великий и искрометный дух гения способен был подойти к грандиозным замыслам и божественному плану спасения христианства очень близко… И рядом—наши радетели, издавшие целый сборник о Шопенгауэре… Смешно и грустно… Самые его ошибки в миллион раз лучше приводят ко Христу, чем вся эта мелкопоместная куриная болтовня наших квазихристианских философов, вроде Грота, Лопатина и др. Мне очень тяжело было читать их: стыдно, страшно стыдно за себя.
Да, христианство по своим философским идеям бесконечно высоко и глубоко, и помимо божественной помощи, доступно только титанам мысли. Наши же мизеры только испошляют, принижают его…
Вот теперь скандал с Соловьевым в Москве. Я вполне сочувствую, что он затрагивает живые религиозные вопросы и обличает современное христианство и православие. Все эти вспышки и скандалы все же подготовляют почву… Но я не понимаю, как—все же крупная фигура—Соловьев мог так опуститься в плоское рационализирование и низвесть христианство к общественному реформаторству… Это христианство-то, имеющее весь свой смысл в коренном перерождении самой души человечества, всех источников всей его внутренней и внешней жизни. Это христианство-то) Основатель которого умер Один за всех на позорнейшем кресте, дабы внутренне, Духом Святым, всех верующих в Себя пересоздать, дать всем семя «нового» человека… И такую страшную глубину замысла низвесть к плоскому реформаторству.
Не испытано ли всем человечеством, что со своими внешними реформами мы вертимся, как белка в колесе, между Сциллой и Харибдой. И чем дальше, тем больше иссякают человеческие жизни. Недостает жизни, недостает сил, все лезет врозь в самой глубине души, все сохнет и гибнет, точно старое растрескавшееся дерево… а тут источник жизни, возродивший когда-то, насколько могли тогда воспринять, языческий мир, готовы свести на реформаторство внешней жизни. Впрочем, не знаю, может быть совсем и неверно передают его мысль. Я был бы от души этому рад…
А его противники? Один ужас. Какой-то Грингмут разыскивает, православный ли он. Странно, чтобы не сказать—скверно… Я очень боюсь, чтобы не заставили какое-нибудь духовное лицо написать против Соловьева… Наверное провалится. Наша религиозная мысль в заскорузлых тенетах схоластики. И какая бы истина ни была, она сквозь эти тенеты не убедит, кого именно и следует убедить… Право, мы переживаем трагические моменты религиозной мысли. Так стоит мысль, что чем более плоска мысль, тем она свободнее и привлекательнее… А истина запрятана в таких дебрях сухих, изживших себя схоластических терминов и фраз, что ее нужно постигать с терпением истинного мученика.
+
Дорогая А.Ф. Я теперь все работаю над воспроизведением жизни и характера Христа. И знаете ли, что больше всего мне бросается в глаза, конечно, помимо всех родов высоты и чистоты, это—полное отсутствие мечтательности: порывов к фантазийному, фиктивному. Это—величайший реалист. Он только видит и исполняет то дело, которое у Него сейчас под рукам. Он не рвется вширь, а работает в глубину над теми, кто сейчас около Него: никогда ни одного сочиненного, общего слова: каждое вызывается сейчас представившимся конкретным случаем. Даже нет ни одного сочиненного сравнения, каждое из них взято из окружающей Его в данную минуту обстановки; за обедом Он—и сравнения, взятые отсюда; в поле Он—и образы отсюда; на небе облака, и Он пользуется этим; скоро зайдет солнце и настанет тьма—Он применяет к Себе. Просто удивительно. У Него решительно нет ничего искусственно сочиненного, ни одной фикции ни в слове, ни в чувстве, ни в поступках. Он на каждом шагу воспринимает реальную среду, реальную обстановку, реальное настроение окружающих лиц—и сейчас же всецело воздействует на них.
Мы всегда живем где-то, всегда думаем и мечтаем о чем-то или из прошедшего, или из будущего: настоящее как-то скользит по нас, оно только между прочим и никогда не исчерпывает нас, уплывает от нас. У Него решительно этого нет. Он всецело воздействует на настоящее: у Него нет ни одного порыва к беспредметному, ни одной нотки неудовлетворенности; весь мир перед Ним, и Он действует в тесной среде, отвергнутый всеми, непонимаемый никем, и действует с полной бесконечной удовлетворенностью. Даже будущее является Ему как неизбежное настоящее, как определенная Богом реальность. И Он говорит об этом Своим ученикам просто как о факте, имеющем быть…
Такое отсутствие пустой рефлексии, мечтательности, порывов, неудовлетворенности настоящим делом и стремления к чему-то будущему,—отсутствие всякой такой фантазийности, сочиненности, по-моему, это одно из величайших чудес, если не самое великое…
И оно поразительно особенно для нас, людей этой фиктивной эпохи, людей все рвущихся к чему-то, мечтающих, рефлектирующих, копающихся и совсем не живущих настоящей реальной жизнью, не работающих над тем, что сейчас у нас под руками, не удовлетворяющихся никаким делом, все кажущимся нам мелким и ничтожным… В каждую былинку можно вложить бесконечность, а мы и всем миром, пожалуй, не удовлетворимся…
У нас широкие размахи; скорбь—так мировая, а рядом живет несчастный—мы не бросим ему взора или слова любви; нравственность—так абсолютная, а сами пьем, грязним себя злыми чувствами и нимало не замечаем этого…
Ах, все это я пишу потому, что видел и вижу сейчас и на каждое слово свое могу сказать несколько примеров, да и на самом себе вижу этого беса. Это мечтательство, эти порывы куда-то, все это диавольский клапан, через который уходят наши силы, наша способность работать над тем реальным делом, которое сейчас, сию минуту есть у нас и просит нашего труда, нашего подвига, нашей любви… Потому-то мы рвемся вдаль, что не умеем работать около себя; потому-то мы и мечтаем о любви ко всем, что не умеем любить действительно тех, кто около нас; потому-то мы и живем в будущем, что не умеем жить в настоящем. И потому-то настоящее уплывает, уходит от нас таким же худым, как было. Мы не улучшаем его своей любовью, своим трудом. Окружающие нас люди не чувствуют нашего света, а мы, ленивые, нерадивые рабы, утешаем себя мечтами, порывами, мы любим что-то, мы работаем над чем-то… но к сожалению, все это фантазии, то есть в пустоте…
Ах, дорогая моя, любите Лизу, держитесь за нее—это реальнейшее, святейшее дело. Не рвитесь куда-то. Право, это призрак, который отнимает у Вас реальные силы. Читайте то, что должно помочь Вам и в Вашем действительном деле; посмотрите, ведь тут хватит материала на сотни жизней. Лиза вырастет, и Вы всю свою любовь должны направить к правильному расцвету всех ее духовных и физических сил, сколько здесь чудного, прекрасного, сколько знаний, сколько самоотвержения… Весь мир не стоит человеческой души. И она под Вашим призором, под Вашим воздействием…
О, эта фантазия! Я просто чувствую ужас перед ней. Это величайший враг. Все раскидываешься, рвешься, а то, что под рукой, проходит без нашей любви, без нашего подвига… Нет, нет, дорогая моя, боритесь и Вы, ради Господа, с этой жаждой пустых порывов… Реализм, величайший реализм—вот что говорит нам Христос, и мы должны подчиниться, должны себя переломить во что бы то ни стало. Нечего мечтать и воображать себя такими-то и такими-то… нужно любить и работать, что есть перед глазами и руками и тут сосредоточить все свои лучшие силы…
+