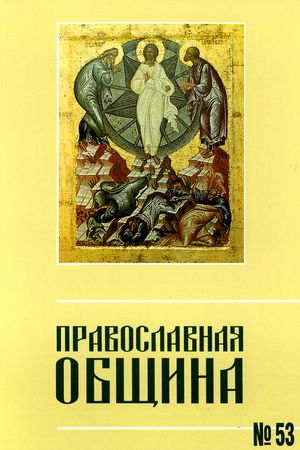Христианство и социальный вопрос
Предисловие к первой публикации
“Трагедия православия в России может еще раз повториться”
Известно, что одна из наиболее слабо разработанных в православии тем, — это социальная доктрина Церкви. Конечно, нельзя сказать, что социальная мысль в православной церкви вообще отсутствовала, — достаточно вспомнить хотя бы знаменитый спор стяжателей и нестяжателей в России XVI в., непосредственно касавшийся взаимоотношений церкви и общества. Однако именно сращенность, почти неразличимость общества и церкви, т.е. народа Божьего, не позволяла этой мысли плавно развиваться, что, в частности, и обусловило тот духовный тупик, в котором наша церковь оказалась после этого спора. Положение резко изменилось с конца XIX в., и особенно после революции 1917 года, когда общество, традиционно считавшее себя христианским, в мгновение ока перестало быть таковым, и церкви волей-неволей пришлось давать ответы на вопросы, которые она ранее перед собой почти не ставила. Куда двигаться дальше? Как всегда, церкви сразу же были предложены два ложных выхода из сложившегося положения. Во-первых, вопреки открывшейся очевидности, по-прежнему считать это, уже новое общество христианским, и этот путь в России выбрали обновленцыДостаточно вспомнить известный случай с обновленческим митр. Александром Введенским, обратившимся к пришедшим на публичный диспут о религии между ним и наркомом просвещения А. Луначарским со словами пасхального приветствия: “Христос воскресе!” Рассказывают, что по многолетней привычке все присутствующие в зале, а среди них были люди самой разной ориентации, хором ответили “Воистину воскресе!” — Хороший прием в споре, но доказывающий, скорее, обратное тому, чего хотел митр. Александр.. Другой путь, противоположный первому, но основанный на той же ложной предпосылке, звал отождествить православие с ушедшим социальным строем и, соответственно, связать судьбу церкви с судьбой последнего. Этой дорогой и пошли в эмиграции карловчане. Однако и в России, и в эмиграции были силы, готовые и начавшие выстраивать третий, царский путь социального устройства церкви, основываясь, в первую очередь, на духовном импульсе, шедшем от Поместного собора 1917-18 гг. К сожалению, импульс этот был воспринят только очень незначительно, и, как мы теперь видим, большая часть православной церкви в России так до сих пор и не смогла преодолеть двух этих соблазнов, оставаясь карловацкой, т.е. фундаменталистской, по своей внешности (богослужение, декларируемая сугубо аскетическая направленность духовной жизни, стремление к канонизации царской семьи и с нею — монархизма, анти-экуменизм и т.п.) и одновременно обновленческой, т.е. модернистской, в своей “начинке” (отношения с существующей властью и одновременно — заигрывание с теми же коммунистами, допущение внутрь себя любых нравственных и безнравственных норм окружающего общества и т.п.).
Как уже неоднократно отмечалось на страницах нашего журнала, подлинную духовную преемственность в условиях жизни нового общества в России удалось сохранить только на путях устроения церковной жизни по принципу общин, одновременно закрытых от общества, хранящих и защищающих святыню христианской любви от смешения с духами века сего, и в то же время открытых к этому обществу, принимающих активное участие в его жизни и несущих ему свет Христов.
В эмиграции же были свои проблемы и свои пути, но интересно, что теоретический ответ на социальный вопрос совпадал с тем, что на практике воплощалось в России, о чем ярко свидетельствует предлагаемая вниманию нашего читателя статья, написанная в самом начале 30-х гг. тогда еще молодым Николаем Афанасьевым, любезно предоставленная издательству нашего института, в числе других архивных материалов, его сыном, д-ром Анатолием Афанасьевым (см. Православная община” № 49, с. 41, № 51, с. 80-89), которому мы еще раз выражаем свою благодарность.
Христианство и социальный вопрос
Если есть еще какой-нибудь вопрос, который по-настоящему волнует современного человека, то это социальный вопрос. Не то, чтобы остальные вопросы — религиозные, моральные, научные — не интересовали его, но они проходят мимо него, они не задевают его существа, являясь как бы своего рода спортом или гигиеной умственной жизни. Между тем, социальный вопрос есть вопрос всей жизни, всего существования современного человека. Как будто от его решения зависит не только судьба современного человека, но и судьба целого ряда предыдущих поколений, судьба всей современной культуры. Каждый народ по-своему интересуется разного рода вопросами, но нет ни одного народа, для которого социальный вопрос не занимал бы совсем особого, исключительного положения. Не случайно, конечно, тот безумный опыт, который проделывается безумными людьми в России, так остро волнует и захватывает современного человека. Это самая радикальная, самая смелая попытка решения социального вопроса, попытка окончательного устроения человеческой жизни. Ради такой попытки думают, что многое можно простить большевикам.
Наивно предполагать, конечно, что не знают о всех ужасах большевизма, — ими просто пренебрегают, как жертвами на войне, как неизбежными ошибками при решении великой задачи. Поэтому социальный вопрос в настоящее время менее всего — вопрос о социальных бедствиях. Конечно, когда социальное зло достигает какого-то предела, оно становится невыносимым. Социальное зло и социальная несправедливость — неизбежные и вечные спутники человеческой истории, но никогда еще они не достигали — в некоторых областях — таких размеров. Еще никогда ежедневно не умирали от голода десятки и сотни людей рядом с неисчислимыми запасами всякого богатства.
Но не в этом только дело. Кто в больших городах видел, как умирают люди от голода? А газетные заметки, читанные наспех, между разного рода сведениями о кинематографических звездах, вряд ли могут дойти до сердца и ума. Если взвесить на весах количество социального зла, то вряд ли наша эпоха оказалась бы такой исключительной. К тому же, если предположить, что зло это уменьшено или сведено к минимуму, то социальный вопрос все-таки остался бы таким же острым, как и теперь. Социальную революцию в России проделали не те, кто умирал с голоду, просто потому, что таковых не особенно много было в России. Самыми горячими сторонниками крайних социальных учений являются люди не вполне социально обездоленные. Надо быть справедливым и признать, что рабочий класс в настоящее время стоит не совсем на самом конце социальной лестницы. Его положение во многом лучше, чем оно было в предыдущую эпоху, и не хуже, чем положение так называемой мелкой буржуазии. Между тем, именно рабочий класс всюду является самым горючим материалом для социальной революции.
С другой стороны, ни одна социальная революция не удалась бы, если бы она не находила поддержки в других классах, гораздо более обеспеченных, и даже среди очень крупных представителей буржуазии и капитализма. Несмотря на все кризисы, капитализм не так слаб, как это принято думать. Он всегда мог бы купить себе преторианскую гвардию для своей защиты. Все дело в том, что этого он никогда не сделает. Как в ближайшем прошлом, так и в настоящее время социальная революция возможна лишь при попустительстве самих представителей капиталистического строя.
Если социальная проблема не вполне зависит от степени социального зла, то нужно искать другой источник ее власти над современным человечеством. С эпохи гуманизма в человеке пробуждается страстная жажда осуществления им созданного идеала общественной жизни. Это религиозная жажда новой религии человечества — гуманизма. С возрастанием значения личности, с усилением веры человека в самого себя, с развитием техники и увеличением власти человека над природой эта жажда только усиливается.
В наше время напряженность социальных чаяний достигла крайних пределов. Пробил страшный 12-й час, когда идеалы, которые поддерживались в человеке веками, потребовали своего осуществления. Современный человек почувствовал, что он дольше так жить не может. Грозное предчувствие надвигающейся социальной катастрофы охватило всех. Надо быть действительно глухим, чтобы не слышать глухих и страшных подземных ударов. Надо быть слепым, чтобы не видеть того, что происходит на одной шестой земного шара — в России.
Может ли православие оставаться равнодушным к социальному вопросу? А если не может, то каково должно быть его отношение не только к социальному вопросу, но и ко всему тому, что происходит сейчас в мире, ко всем этим попыткам и исканиям современного человечества осуществить свой идеал социальной справедливости? Кажется, что относительно первого вопроса в настоящее время нет никаких сомнений. В грозный час человеческой истории Церковь призвана сказать свое слово. Церковь не может оставить своих детей в их борьбе за правду “в царстве мира сего”. Но каково это слово?
Есть одно очень распространенное, как мне кажется, историческое недоразумение. Историческая церковь обвиняется в том, что она игнорировала социальные вопросы, очень мало занималась земными делами, а в монашески-аскетическом своем направлении просто отрицала всю земную человеческую жизнь. Она как будто говорила: “чем хуже, тем лучше для спасения человеческой души”. Самое большое, что делала Церковь, — это то, что она занималась благотворительностью. Церковь не находила нужным или не находила в себе смелости возвысить свой голос против социального зла и социальной несправедливости. С этим обвинением связано другое, более глубокое, основное утверждение, что христианство не развило учения об обществе. Откровению о Боге и о человеке не отвечало учение об обществе. В этой связи довольно часто возникает учение о Третьем Завете, в котором должно раскрыться учение об обществе. В той или иной степени, ясно или прикровенно, учение о Третьем Завете часто является предпосылкой христианских решений социального вопроса. В этом сказывается убеждение, что при имеющемся догматическом учении Церкви она не в состоянии решить социального вопроса, ответить на насущную потребность современного человечества.
Между тем, если возможно вообще говорить об ошибках исторической церкви, то одна из самых основных ее ошибок именно в том и заключалась, что она слишком себя связывала с существующими формами социальной жизни. Церковь не только не оставалась к этим формам равнодушной, но она освящала их, вернее одну из них, и даже иногда почти что догматизировала. Всякая политическая форма связана с определенным социальным учением. Когда в церкви выработалось учение о священной власти, то этим самым была принята если не исключительно одна форма социальной жизни, то во всяком случае та, которая исходила и устанавливалась этой властью. Церковь, конечно, не могла не видеть недостатков и неправды, но она приписывала их не самой форме, а ошибкам людей, которые ее осуществляли. Церковь оставляла за собой право обличать этих людей, так же, как она, правда очень редко, считала своим правом обличать даже носителей священной власти — византийских императоров. Когда в ХIV веке константинопольский патриарх поучал тогда еще неопытных московских князей, что “не может христианин иметь Церковь, а не иметь царя”, — правда, по мысли этого патриарха, византийского царя, но ведь это только вопрос времени, — то этим на долгое время было отравлено православное сознание. Высшая русская иерархия не сохранила даже минимального права обличения носителей власти, а заранее оправдывала все, что исходило от нее, и всех врагов этой власти объявляла врагами Церкви.
Прекращение союза Церкви с государством должно было быть и ее отрывом от определенной социальной формы. Означает ли это, что Церковь должна вновь вступить в новый союз с новой властью, принять и освятить новую форму социальной жизни, или, оставаясь без союза со старой, которой фактически и не существует больше, продолжать утверждать старый социальный порядок, сложившийся при этой власти? Этот вопрос можно поставить в еще более общей форме: может ли вообще Церковь связывать себя с какой бы то ни было социальной формой и социальным учением? Мне кажется, что это один из соблазнов современной православной мысли, который находит свое выражение в иной несколько форме: Церковь должна выработать свой социальный идеал и свое социальное учение, которое она должна осуществлять. Так ли это, или, точнее, в какой степени правильно это требование, предъявляемое в Церкви? Если брать его полностью en toutes lettres (буквально (фр.) — ред.), то это как раз указывает на то другое недоразумение, что будто бы Церковь вообще не имела никакого своего социального учения и нуждается в новом откровении об обществе. Если христианство, начиная с IV века, приняло социальный строй Римской империи, а в русском православии — русской монархии, то этим как бы подтверждается, что своего учения оно действительно не имело.
Однако историческая церковь начала существовать не с IV века. Я не хочу звать к “запрещенным” для православия первым трем векам жизни христианской церкви. Но если уж вообще делать историческую справку, то почему же не справиться также о том, как было в то время, когда церковь не только не вступила в союз с государством, но и вела с ним тяжелую и упорную борьбу. Могла ли церковь в продолжение трех веков, хотя бы еще в отрыве от государства, существовать совсем без социального учения? Ответ как будто напрашивается. Христианство никогда не было и не будет религией отдельных людей, частным делом каждого человека. Если мы обратимся к литературе того времени, главным образом канонической — так называемой псевдо-апостольской письменности, — то мы найдем вполне определенное учение о христианских общинах, живущих отдельно от всего греко-римского языческого мира. Церковь создала свою собственную среду, создала действительно новых людей, создала совершенно особые условия жизни — социальной, экономической, моральной.
Если на это возразят, что эти общины были церковными общинами, а следовательно, учение об их устройстве и организации было учением о Церкви в его канонической области, а не учением о человеческом обществе вообще, — то в этом возражении заключается ответ на вопрос о социальном учении христианства в первый и последующие века. Учение о Церкви и есть социальное учение христианства. Церковь есть богочеловеческий, а следовательно, и общественный организм. Единственное учение об обществе, которое может и должно иметь христианство, есть учение о Церкви. Христианский социальный идеал есть идеал церковный. Этим жило христианство первых трех веков, не имея нужды заимствовать существовавших в то время социальных форм римского государства, ни каких бы то ни было социальных идеалов того времени, вроде “Республики” Платона. Христианство тогда делало то, что было забыто впоследствии, что еще до настоящего времени забыто: оно творило свою социальную жизнь на основе своего идеала и творило ее не вне себя, а внутри. Внутри старого, но еще полного жизни, блеска и славы греко-римского мира возникал другой мир, такой странный и такой ему чуждый. Борьба христианства и Pax romana (“Римского мира” (лат.), здесь — Римской империи. — Ред.) не была только противоборством двух культур — античной и той новой, которую несло христианство, а было противоборством двух миров — природно-эмпирического и благодатного, Церкви и мира.
Начиная с IV века уже почти что были забыты самые трагические слова, которые когда-либо были сказаны на земле и которые так до боли ясно поняло христианство первых веков: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее
(Мф 10: 34-35). Человек не мог долго вынести этого предельного, до ужаса доходящего трагизма, когда живой человеческий организм рассекает меч, когда он отсекает все самое дорогое, самое любимое — семью, общество, государство. Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется. Две мелющих в жерновах: одна берется, а другая оставляется
(Мф 24: 40-41). В Византии на эти слова ответили, что государство есть Церковь, а на Западе — что Церковь есть государство. Но и там и здесь пришли к одному: к смешению государства и Церкви, эмпирического природного порядка и благодатного. Самое страшное в том, что это было смешением истины и лжи. Поистине
“То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет.
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет”.
Так и до настоящего времени христианское сознание пленено этим смешением, так оно и до настоящего времени в нем пребывает.
Мы живем в то время, когда этот соблазн прекращается. Но как странно: он прекращается не по нашей воле, не по воле христиан, а по желанию врагов христианства или людей к христианству равнодушных. Если раньше мир объявлял себя христианским, то сейчас он открыто заявляет о своей непричастности к христианству или даже о своей враждебности к нему. Если раньше византийскую империю или русскую монархию можно было смешивать с Церковью, то вряд ли теперь кто-либо будет с ней смешивать СССР. Опять, как и в первые века, меч Христа расколол мир на две половины.
Однако если отнять у нас этот явный соблазн, то остался другой, более тонкий, а потому и более опасный. В своих самых глубоких основах эмпирическое бытие смешивается с бытием благодатным. На эмпирический общественный организм переносятся предикаты благодатного организма. В этом отношении крайне знаменательна книга Франка “Духовные основы общества”. Хотя Франк и несколько раз вспоминает о первородном грехе и его последствиях, но в своем построении учения об обществе как будто всякий раз об этом забывает. В результате неизвестно, о духовных основах какого общества говорит Франк: общества ли, состоящего из людей, находящихся под властью первородного греха, или уже от него освобожденных. Эта неясность позволяет Франку прилагать христианское учение о благодатном организме к эмпирическим общественным союзам, начиная с государства. Более, чем когда-либо, в настоящее время надо строго провести границу между Церковью и миром, признать эту двойственность и из нее исходить. Дуализм Церкви и мира создан не христианством. Церковь всегда принимала мир, но мир с большим трудом принимает Церковь. Почему христианство ради единения с миром должно жертвовать Церковью, почему мир не желает пожертвовать собой ради истины и ради своего спасения?
Мне кажется, что уже можно установить следующее положение: православие имеет свое учение об обществе, которое заключается в учении о Церкви, но это учение православие может прилагать только внутри себя, созидая и строя церковную жизнь.
Мне бы хотелось заранее здесь же оправдаться от обвинения в максимализме или утопизме. Я не особенно верю в современные пророчества об эсхатологическом характере нашего времени. Нам этого еще не дано знать. Но “можно не быть пророком, чтобы чувствовать приближение начала конца”. Христианство вступает или уже вступило в очень тяжелые времена, когда все больше и больше создается впечатление, что христианство вообще не удалось. Но кто и где сказал, что христианство вообще должно удаться? Когда же Сын человеческий приидет…
Что это? Окончательная неудача христианства? Нет, это неудача мира и удача христианства. Христианство не может не удаться, так как Сын Божий уже пришел на землю, но человечество не удалось, так как до сих пор не приняло Его. Предчувствие трагического конца мира исключает всякого рода утопизм, есть своего рода страховка от него. Христианство может никогда полностью не осуществить свой идеал церковной жизни, но из этого не следует, что христиане не должны к нему стремиться, не должны ясно отдать себе отчет в том, что такое христианское учение об обществе, и не смешивать его ни с каким иным учением. Если христианство не воплотит свой социальный идеал, то почему оно должно принять чужой идеал, как будто человечество сможет осуществить свой идеал? Социальные катастрофы так же неизбежны, как и геологические. Всякий, даже идеальный социальный строй не вечен, на смену ему может прийти самый несовершенный. Падение того строя, с которым себя свяжет христианство, не будет ли падением и самого христианства, конечным и окончательным? Тогда vae victis (горе побежденному (лат.) — Ред.)! Трагедия православия в России может еще раз повториться, но в еще более страшных условиях.
Из всего этого вытекает второе положение: христианство не должно себя связывать ни с какими социальными, а следовательно, и политическими учениями. Социальное учение, как бы оно ни было совершенно, не может быть возведено в религиозную истину: нельзя временное, земное, несовершенное делать абсолютным, вечным и совершенным. Поэтому ни о каком христианском социализме или коммунизме, или буржуазно-капиталистическом строе не может быть и речи, так же как и о каком-нибудь другом, еще не существующем строе. Всякое подобное построение мне кажется попыткой сделать из христианского учения какое-то лекарство, вспомогательное средство, которое может приправить христианством нехристианские учения. Это заплата из новой материи на ветхой одежде, которая не выдерживает и только еще больше рвется. Все время хотят христианством что-то исправить в мире, а не покорить Церкви мир, выступая в роли каких-то “сторожей”, которых никто не зовет и никто не просит.
Если Церковь не должна себя связывать ни с одним социальным строем или социальным учением, то какова ее роль в действительной жизни, каким может быть ее участие в решении социальных вопросов? Создание христианами своей общественной среды согласно своему идеалу, т.е. церковного общества, не требует от них отказа от участия в той жизни, которая происходит вне Церкви. Согласно слову апостола Павла, иначе им пришлось бы выйти из мира сего (1 Кор 5: 10). Если Бог так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал за мир, то как человек может возненавидеть этот мир? Христианин не только может, но и должен участвовать в общей жизни, но он должен участвовать в ней как христианин. Это очень старая истина, но к сожалению, ее приходится часто вновь вспоминать.
Таким образом, участие Церкви в современной жизни должно выразиться в виде участия ее детей. Я не считаю возможным сейчас выяснять, в какие формы может вылиться это участие. Будет ли это образование определенных партий, вроде католических, или это будет протекать в иных каких-нибудь формах, — все это будет зависеть от места, времени, личного разумения каждого. Во всяком случае, это участие мне мыслится очень широким. Я не думаю, чтобы были какие-нибудь препятствия для вхождения членов Церкви даже в уже существующие социально-политические группы, если только они не враждебны христианству. Каждая партия, помимо своей политической идеологии, имеет определенную программу социальных реформ. Эта последняя сторона играет обычно более важную роль, чем идеология и может быть усвоена христианами.
Не только отдельные члены Церкви, но и сама Церковь может принять участие в современной жизни. Она всегда должна называть зло своим именем, откуда бы оно ни исходило. Церковь есть “совесть” мира, и горе ему, если этот голос умолкнет. Не будучи связанной ни с одной социально-политической формой жизни, Церковь всегда может оказать помощь всем тем, кто борется за социальную правду. Одна из основных задач Церкви в настоящее время в том и заключается, чтобы укрепить в сознании масс — христиан и нехристиан, — что всякое справедливое стремление найдет в ней поддержку и всякое социальное зло — порицание. “Церковь с богатыми и сильными — против слабых и угнетенных”, это, к сожалению, для нас, христиан, слишком горький упрек, так как нельзя в нем не признать хотя частичную правду.
Наконец, Церковь может даже обратиться с рядом требований в защиту тех или иных классов или людей. Но эти требования не должны исходить из каких бы то ни было принципов социальных учений, а исключительно из учения Христа — учения о любви. Провозглашение со стороны Церкви тех или иных принципов равно их догматизированию. Католичество, которое, начиная со знаменитой энциклики папы Льва ХШ “Rerum novarum”Энциклика “Rerum novarum” была опубликована в 1891 г., содержит основы всей последующей социальной доктрины Католической церкви. См. об этом, например, Патрик де Лобье. Социальная доктрина Католической церкви. Брюссель, 1989. С. 50-63. — Прим. ред., так смело и решительно вступило на этот путь в защиту социальной правды, не совсем еще свободно от догматизирования. Когда в последней большой энциклике теперешнего папы Пия “Quadragesimo anno”“Quadragesimo anno” — знаменитая энциклика Папы Пия XI, посвященная социальной доктрине. Была опубликована 15 мая 1931 г., во время глубокого экономического кризиса. См. об этом там же. С. 94-100. — Прим. ред. наряду с признанием справедливости требований рабочего класса провозглашается священный принцип собственности, то этим Католическая церковь сама втягивается в социальную борьбу. Как ни дорог и ни законен принцип собственности, тем не менее, он ни в какой мере не связан с христианским учением. Хотя и очень короткое время, христианство просуществовало при добровольном, из любви вытекающем отказе от собственности.
Наконец, Церковь может вести непосредственно очень широкую социальную работу. Я не боюсь, что эту работу назовут благотворительностью. Прежде всего, потому, что она может быть шире благотворительной работы, а затем и потому, что благотворительность сама по себе очень хорошее дело, особенно если она может смягчить существующее социальное зло. Конечно, социальной работой нельзя решить ни одной социальной проблемы, так как она коренным образом не уничтожит источник социального зла.
Как раз в этом должно сказаться третье основное положение православия в его отношении к современным социальным вопросам: никакими социальными реформами или революциями нельзя уничтожить социальное зло и социальную несправедливость. Они зависят не от тех или иных форм социальной жизни, не от воли отдельных лиц или отдельных групп, а от несовершенства и греховности человеческой природы. Только в Церкви в благодатном порядке греховность человеческой природы преодолевается, и только в Церкви социальный вопрос может быть радикально разрешен.
Таким образом, социальный вопрос есть по существу вопрос религиозный. Это четвертое и крайне важное положение. Этим определяется основное отношение православия ко всей совокупности социальных вопросов современности. Основная интенция всего современного социального творчества есть попытка радикального и совершенного социального устроения, но в пределах человеческой жизни, попытка осуществления земного рая. В этих своих самых глубоких основаниях социальные чаяния представляют собой религиозный антипод христианства. Это есть догматизирование эмпирического человека и его эмпирической социальной жизни. Поэтому Церковь не может не высказать совершенно определенного отрицательного отношения к этой основной интенции социальной жизни. Даже более того, она не может не вести открытую борьбу с такими религиозными предпосылками. Если, как я указывал, Церковь не может себя связывать с социальными учениями, то в некоторых случаях она даже должна резко себя от них отграничить. Опасность только в том, чтобы осуждение религиозных предпосылок социально-политических систем не распространилось на справедливые социальные требования, которые по существу не связаны с религиозными основаниями.
Еще раз приходится вспомнить о католичестве, на этот раз в связи с социальной работой. В разных странах католиками ведется огромная социальная работа. О истории этой работы во Франции дают представление замечательные книги P. Lhaudia. Эти же книги указывают, что социальная работа не совпадает с благотворительностью. Религиозная работа начинается одновременно с социальной. Там, где еще нет церкви, даже дома для священника, начинается педагогическая работа с детьми: сначала под открытым небом на любом свободном месте, затем возникает постоянное помещение, которое служит не только детским садом, но и местом, где находят приют разного рода учреждения, обслуживающие нужды созидаемой общины. Иногда только в конце возникает храм. На окраинах Парижа католичество делается религией пролетариата, коммунистов, людей, выброшенных из общества. Создается совсем особый мир, так мало похожий на знакомый нам католический мир. Социальная работа и социальная благотворительность обращаются в мощное оружие миссионерства.
Чем меньше христианство смешивает себя с миром, чем яснее оно себя от него отграничивает, тем сильнее оно в нем проявляется, как одна из основных и действующих, и созидающих сил. Христианство никогда не устраивало никаких революций, но самые великие социальные революции сделаны христианами. Влияние христианства на всю современную жизнь стало общим местом всякого учебника истории. До сих пор точно не определено, в какой степени сказалось влияние христианства на социальные учения вплоть до коммунизма. Но это только какое-то звучание мира в ответ на христианское учение. Самое появление христианства было величайшим социальным переворотом, но не для всего мира, а только внутри творимого христианского общества. То, что спустя 18 веков только написала французская революция на всех зданиях — свобода, равенство, братство, — фактически было осуществлено христианской общиной первых трех веков. Не замечают того, что христианство уничтожило рабство не через 10 веков своего существования, а с самого начала. Христианская община не знала рабства. Там, где раб мог быть епископом, там действительно не было рабства. Рабы были сразу освобождены, без всякой революции, без требований от власти, без императорского указа, без формальностей. Творя новую жизнь, новые формы социальной жизни, христианство побеждало старую жизнь. Отделяя себя от мира, Церковь преображала мир. Государство пленило Церковь, когда оно объявило себя церковью.
Думая об огромных задачах, которые предстоят христианству в его социальной работе, мне хочется закончить знаменитыми словами Тертуллиана: “Мы существуем со вчерашнего дня, а все уже ваше наполнили: города, острова, замки, муниципии, народные собрания, самые лагери, трибы, декурии, дворец императорский, сенат, форум; только храмы мы оставили вам... Да, мы могли и безоружные, и не прибегая к восстанию, а только не соглашаясь с вами, бороться против вас в качестве враждебной партии”.
1932