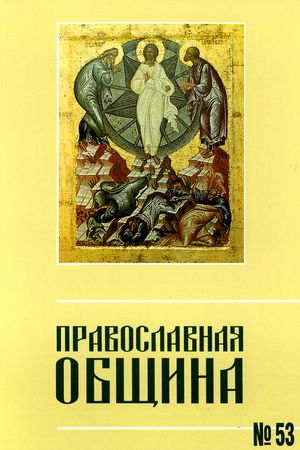Нам должно брать на себя риск. Интервью с членом Попечительского совета МВПХШ профессором Дмитрием Поспеловским
Духовное образование — одна из важнейших областей церковной жизни. Современное состояние духовного образования — забота всей церкви, т.к. в подходах к образованию заложено ее будущее. Будет ли Русская православная церковь действительно просвещенной, возрождающей свою жизнь по евангельским принципам любви и свободы, открытой всей полноте христианской традиции? Ответ на эти вопросы нам нужно находить уже сегодня. В преддверии обсуждения всех этих проблем на международной богословской конференции «Предание Школы и Предание Церкви» мы беседовали с членом Попечительского совета Свято-Филаретовской высшей школы, магистром философии Лондонской школы Экономических и политических наук, заслуженным профессором истории университета Западного Онтарио профессором Д.В. Поспеловским.
Нам должно брать на себя риск
— Дмитрий Владимирович, прошло десять лет со времени празднования 1000-летия Крещения Руси. Тогда, в 1988 году, наш народ переживал большое вдохновение, большой подъем, от которого ожидали духовного возрождения в России и Русской церкви. Прошло время и, конечно, церковь сейчас выглядит уже совсем иначе. Иначе выглядит и образовательная структура церкви, изменились в чем-то и подходы к церковному образованию. Как, на Ваш взгляд, можно охарактеризовать прошедшее десятилетие в области церковного образования, учитывая и достижения, и недостатки?
— Конечно, количественные достижения очень большие. Сегодня, если суммировать по всему СНГ, то наберется уже до 26 семинарий, плюс примерно такое же количество духовных училищ. В некоторых университетах есть православные кафедры, пытаются создавать и православные факультеты, возникло несколько православных университетов. Но вопрос качества образования — очень сложный вопрос.
Во-первых, что мне совершенно непонятно, — почти нет учебников, а ведь учебники необходимы. Я преподаю в Православном университете им. св. Иоанна Богослова здесь в Москве, в Минской и Смоленской семинариях, и вижу это. На Западе в каждом учебном заведении существует книжный магазин, и профессора или преподаватели говорят, какие книги студенты должны приобрести, дают списки рекомендуемой литературы. Студенты приобретают рекомендуемые учебники, и это их основная база в получении знаний. Кроме того, конечно, они пишут сочинения, работают в библиотеке, собирают дополнительную литературу, но основных — один, два, три учебника на каждый предмет. Здесь этих учебников нет, и поэтому очень трудно. Кстати, в англо-американской системе задолго до начала учебного года каждый преподаватель обязан сделать заказы университетскому книжному магазину на учебные пособия и тексты необходимые для его курсов в количестве, соответствующем предполагаемому числу его студентов в наступающем учебном году. В России и намека нет на что-либо подобное. Например, я только что прочитал курс по истории РПЦ в Православном университете. Дал студентам выбор: сдавать экзамены или писать курсовые работы. Десять студентов написали курсовые работы. Но у большинства из них нет понятия, как писать, как собирать литературу, хотя я дал им библиографию. Вдруг я нахожу — письменная работа на 20 страниц, а ссылка дается только на один источник, один учебник, причем даже без выходных данных. Я сейчас говорю о церковной истории, но такая же проблема во всем.
В духовных академиях вынуждены заниматься по ротаторным конспектам, которые писались Бог знает когда, в советское время, в которых из-за цензурных условий пропускалось все самое главное. Буквально по пальцам одной руки можно перечислить те учебники, которые вышли за эти десять лет, в то время как каждый преподаватель может на базе своих конспектов и лекций за несколько месяцев написать учебник. Худо-бедно, но учебник, понимаете! Это вот первое.
Второе, что мне кажется характерным для большинства школ, особенно духовных, — это дух тоталитаризма. Он очень силен в современной церкви, особенно в школах, находящихся при монастырях, где так называемые старцы буквально зомбируют своих духовных чад-семинаристов. Это полнейший контроль, недопущение свободы мысли. Ведь кто прибегает к тоталитаризму? По-моему, тот, кто сам очень ограничен в познаниях и очень неуверен в своих возможностях. Это признак, скорее, недоучки. Так обстоит дело во многих духовных семинариях, например, в Московской, где студенты буквально всего боятся. Когда я там преподавал (сейчас я persona non grata в Московской духовной академии), студенты никогда не задавали прямых вопросов на лекциях, а только бумажками. И я помню, как один студент мне задал вопрос на бумажке. Почерк у него был очень сложный, я не смог разобрать. Я спросил: «Чья это записка, пожалуйста, скажите?» — Молчание. Вечером ко мне подходит, буквально оглядываясь по сторонам, один молодой человек, и говорит: «Вы знаете, Дмитрий Владимирович, это я написал записку, но я не посмел сказать. Если бы я сказал, что это у меня была такая-то мысль (я уже не помню, какая — Д.П.), если бы я ее громко высказал, меня бы отчислили из семинарии или даже могли отправить в психушку. У нас такие случаи тоже бывали». И это я слышал в 92-м году или в 93-м году. Что ж там раньше было, при советской власти?!
Я часто задаюсь вопросом, почему такой расцвет русской богословской мысли произошел не в России, а за рубежом (хотя это был уже результат, готовилось все здесь). Все-таки в России не было полной свободы академической духовной мысли, она была довольно-таки контролируема, была духовная цензура. В XIX веке авторы боялись гораздо больше церковной цензуры, чем гражданской, которая была гораздо более либеральной. И, конечно, в этих условиях в русских духовных академиях возникла прекрасная историческая школа, но богословствование было очень и очень с оглядкой. А тут еще прибавился 70-летний разрыв не только с дореволюционной традицией, но со всем тем, что происходило в это время в богословской науке на Западе, во всем мире. На это даже жаловался в свое время патриарх Алексий I. Он-то еще мог говорить о мировой мысли, а сейчас на нее даже опасно сослаться, сразу сделают «еретиком». Так что в этой атмосфере я очень пессимистически смотрю на прошедшее десятилетие.
Но есть и исключения. Есть дух свободы в вашей Школе, в Смоленской семинарии. В Православном университете у о. Иоанна (Экономцева) студенты, слава Богу, не боятся задавать вопросы, спорить, держат себя очень свободно. В Минской семинарии нынешняя атмосфера и та, которая царила там во время моего преподавания в 1995 г., отличаются как небо и земля. (Правда, говорят, что это связано с переводом еп. Константина, бывшего ректора, который теперь в Петербурге, но я его лично мало знаю). Теперь в Минских семинарии и духовной академии очень хорошие ребята, большинство студентов академии уже с гражданским высшим образованием, люди открытые, раскованные, с которыми обо всем можно говорить, и с юмором, — очень хорошо. Последняя моя лекция там была на 40 минут, и потом полтора часа была дискуссия, причем совершенно открытая, без бумажек. Споры были, понимаете. Но это все же исключения.
По-моему, пока не будет свободы мысли, конечно, в разумных рамках, нельзя говорить о каком-то продвижении вперед в духовном образовании.
А потом — ведь сейчас студентов на богослужение в церковь загоняют, понимаете. Скажем, и во Владимирской академии в Нью-Йорке — ежедневные службы: утреня 15–20 минут, на которую приходят все перед завтраком, вечером — краткая вечерня, 40–45 минут. Если студент регулярно не приходит в церковь, с ним говорят: «Ты все-таки находишься в духовной академии, если ты не ходишь на богослужения, значит, тебя это не интересует, но так нельзя, ты ведь подаешь пример, не стоит ли тебе перейти в гражданскую школу?» Но там нет такого, чтобы следили, чтобы обязательно в таком-то часу каждый студент являлся в храм, иначе будет наказание. Это невозможно. Я вспоминаю слова покойного владыки Евлогия (Георгиевского), который, будучи ректором семинарии в дореволюционной России, понимал, что это насильственные богослужения, что больше 50% студентов неверующих или безразличных. Как он жалел этих студентов! Ведь такое лицемерное соблюдение всех церковных правил без подлинной веры в Бога коверкает их души, если они насильно на молитве стоят. Все эти вопросы, эти главные проблемы должны быть, по-моему, решены.
— В январе этого года, на VII Международной консультации православных богословских школ, которую проводил Cиндесмос, иером. Иларион (Алфеев) сделал доклад «Духовное образование на христианском Востоке (I-VI вв.)»См. Д. Гасак. Некоторые замечания о VII Международной консультации православных богословских школ. «Православная община» № 50. С. 95–107.. Он описал древние христианские восточные школы: александрийскую, нисибийскую и др., их систему образования, и постарался показать, насколько богата традиция духовной школы в Православной церкви. На основании этого о. Иларион указал некоторые направления реформы нынешней системы богословского образования в Русской церкви, связанные и с усовершенствованием учебных программ, с организацией управления духовными школами и т.п. Что, по-Вашему, может повлиять на изменение к лучшему в нынешнем богословском образовании? Что здесь может послужить той духовной опорой, оттолкнувшись от которой можно действительно что-то по существу изменить?
— Я думаю, это будет возможно, если изменится, прости Господи, дух во всей церкви, если будет больше свободы, больше уважения к инакомыслию. Помните слова апостола Павла о пользе разномыслия? Пока мы не научимся уважать чужое мнение, ничего не сдвинется с места. Кажется, о. Георгий Флоровский писал, что Победоносцев боялся интеллигентного духовенства, потому что он знал, что мысль связана с сомнением, а он боялся сомнения. Мысль действительно невозможна без сомнения. Для нас важно его допускать, допускать если не ереси, то, во всяком случае, теологумены, как например, у о. Сергия Булгакова. Если бы он жил в современной России, он за свое разномыслие в отношении Софии и прочего был бы запрещен в служении уже давно. Но тогда в Париже, по-моему, было найдено мудрое решение: да, это рискованные мысли, не православные, во всяком случае — под сомнением. И вот такое решение было принято богословской комиссией в Париже: думайте над этим вопросом, но не преподавайте его в семинариях; а размышлять — ваше право. Если у нас будет такой подход, по-моему, — это самое главное. Ведь с мысли и с сомнения начинается творчество. А без творчества не может быть развития. Я же знаю, что проф. А.Б. Зубова из Московской академии прогнали. За что? За то, что он смел в библейской экзегетике ссылаться на западных богословов. В таких условиях ничего не может развиваться.
— В церкви существуют образовательные структуры, которые учреждаются «сверху». Ни одного года не проходит без решения об открытии какого-нибудь духовного училища, семинарии или даже академии. Кроме того, в церкви происходит создание школ и как бы «снизу». Такие школы есть и в Москве, и в Петербурге.
— Кстати, в каком-то смысле и Тихоновский институт возник «снизу».
— Да. Как Вы считаете, в каком направлении будет развиваться этот процесс в ближайшие годы?
— Ну, я не пророк. Мне кажется, что оба процесса должны идти, не мешая друг другу. Нужна богословская комиссия, которая будет проверять богословские школы. Но это должна быть действительно академическая проверка.
Мне кажется, что хорошая система такой проверки сложилась в Америке. Ведь там религия совершенно отделена от государства, так что государственного контроля над духовными академиями и семинариями быть не может. Поэтому существует контроль со стороны самих же семинарий, т.е. избирается комиссия, группа известных ученых из разных богословских школ — католических, лютеранских, православных, — зарекомендовавших себя академически, которая примерно раз в пять, или даже десять лет, по кругу инспектирует каждую школу.
В 1993 г. я преподавал во Владимирской духовной академии и тогда как раз подошел срок проверки в ней. Комиссия целую неделю жила в семинарии, ее члены встречались со студентами, с профессорами, в частности, со мной, потому что я преподавал там один семестр и был, так сказать, независимым. Им было интересно узнать мнение «человека со стороны». После проверки комиссия делает доклад по школе с академической оценкой — что им нравится, что не нравится. Владимирская академия прошла проверку успешно, на пятерках. Иногда по оценкам комиссии школу могут закрыть, т.е. лишить аккредитации. Эта же комиссия и дает аккредитацию.
— Та комиссия, инспектировавшая Владимирскую семинарию, состояла из православных?
— Нет. В той комиссии был и баптист, и лютеранин, был, кажется, англиканин, католик: во всяком случае — христиане. И больше никто. С таким же успехом могут пригласить профессора Владимирской академии, который в составе такой смешанной комиссии будет инспектировать католические и баптистские семинарии. Но в данной комиссии православного не было.
Я помню, был прощальный обед с ними, вечерний, при свечах, с хорошими винами и так далее, очень вкусно было. Так вот католик сказал: «Как я люблю инспектировать православных. А то приедешь к баптистам, — там ни вина, ничего, а тут в православной семинарии можно вкусно покушать». Такие были неформальные отношения.
Этот же католик, подводя итоги своему исследованию Владимирской академии, мне сказал, что у Католической церкви в Америке таких маленьких семинарий, как Владимирская, в которой в том году было всего 89 студентов, — несколько десятков. И, говорит, если бы они исчезли, Католическая церковь от этого бы не пострадала. Но если бы исчезла Владимирская академия, то мы пострадали бы все, потому что нам необходима серьезная православная школа, на которую мы можем ссылаться, с которой мы можем знакомиться, и через нее — с православием, с помощью которой мы можем обогащать свое мировоззрение и свое христианство. Эта школа необходима всем христианам вне зависимости от их конфессии. Вот это — подлинный экуменизм, я считаю, тот, который должен быть, а не какие-то там комиссии, комитеты, с колоссальными зарплатами и политическими расчетами. Это низовой экуменизм, и он тоже необходим России. Было бы замечательно, если в России создали бы богословскую комиссию, в которую пригласили бы и баптиста, и лютеранина, и католика, где, конечно, православные были бы в большинстве. Чего бояться?
— В нашей стране и религиозные, и нерелигиозные школы пока проходят лицензирование и аккредитацию в светских министерствах. Каким образом религиозные школы в США добиваются признания своих дипломов светскими учебными заведениями?
— Светские учебные заведения считаются с этой аккредитацией. Они знают, что аккредитация религиозных школ довольно требовательная. Кроме того, в Америке нет обязательных правил: в одном университете будут принимать, в другом — не будут. Например, Колумбийский университет запросто принимает диплом Владимирской семинарии, Гарвардский тоже, потому что там Флоровский преподавал, Принстонский тоже, потому что и там Флоровский преподавал. А университет где-нибудь в Алабаме, может быть, не примет, скажет: «Вы не баптисты, и мы вас не принимаем, мы баптистов знаем, а вас не знаем».
— Весной нынешнего года в Санкт-Петербурге на конференции по проблемам высшего религиозного образования, организованной Высшей религиозно-философской школой, была высказана идея создания комиссии по аккредитации, в которую входили бы не чиновники, а именно специалисты. Правда, в России сейчас, кажется, сделать это невозможно…
— Чтобы Московская духовная академия разрешила баптистам участвовать в комиссии по проверке ее уровня образования? (Смеется)
— Да, это трудно представить. Но каким образом находят общий язык все эти люди в Америке? Как может, например, баптист оценить качество православного богословского образования?
— Ну, все-таки христианство-то у нас общее. Все христианские церкви признают Троицу, признают Христа Сыном Божиим, баптисты в том числе. Есть некоторое различие в акцентах на практике. О. Иоанн Мейендорф говорил, что все мы, в общем, подпольные монофизиты, это наша неофициальная православная ересь, а западные христиане — ариане, потому что мы подчеркиваем божественное во Христе, а они подчеркивают человеческое в Нем. Так сложилось на практике. Хотя на уровне догматики, на уровне учения таких искажений нет. В конце концов, обязательных догматических установок очень мало: Христос — Сын Божий, две природы в Одном и Троица. Хотя, в догмате о Троице уже есть различия насчет filioque. О. Иоанн Мейендорф считал, что филиокве можно рассматривать как теологумен, а не как ересь. Католики теперь разрешают служить — я это видел на католической мессе в Бозе — без филиокве. И за папу Римского там обычно не молятся, они лишь поминали местного епископа, согласно греческой традиции. Так что я не вижу, почему не может быть комиссии, состоящей из христиан разных конфессий, конечно, без свидетелей Иеговы или мормонов, это ясно.
Ну, а с другой стороны (по-моему, можно называть все вещи своими именами), в Тобольской семинарии в присутствии архиерея молодой преподаватель, доцент, кандидат богословия Московской академии заявил мне, что между католичеством и сатанизмом нет никакой разницы. Его епископ не поправил, улыбнулся так вот, и все. Тот же молодой преподаватель после этого сказал, что ему ближе русские коммунисты, чем западные христиане, т.к. западные христиане ересь несут сознательно, а русский коммунист — безбожник по глупости. Понимаете, если так думать, пусть и по немощи, то невозможно ни о чем серьезно говорить.
— Можно ли каким-то образом сравнить православные богословские школы в России и на Западе?
— Я очень мало знаю богословские школы на Западе. Я историк и преподавал в гражданском университете, делал исследования по истории церкви. Мне посчастливилось в жизни, что моими духовниками были вл. Антоний (Блум), о. Александр Шмеман (я всегда встречался с ним, когда бывал в Нью-Йорке, несколько раз останавливался у него), о. Иоанн Мейендорф, конечно, и владыка Иоанн (Шаховской). Вот эти четыре человека сыграли огромную роль в моей жизни. Но я не богослов, и богословие мое сводилось к тому, что когда я бывал во Владимирской семинарии, я работал там в библиотеке (прекрасная библиотека для моих писаний!), сидел на богослужении, иногда приходил на лекции, на собрания (там раз в неделю бывает такая неформальная встреча, кто-нибудь читает доклад, который потом обсуждается за чаем). Так что авторитетом в богословии я во всяком случае не являюсь.
Я думаю, главная разница в том, что у них есть дух свободы. Ну, вот, скажем, многие курят. Никто этого не скрывает. В России водку пить не страшно, а выкурить сигарету — это уже смертный грех. О. Александр Шмеман страдал этим грехом, он курил действительно много, только на Великий пост всегда бросал курение. Он мне говорил: «Знаете, на Пасху все мечтают о куличах, и пасхах, и разговении, а я мечтаю выкурить, наконец, первую сигаретку с черным кофе после конца службы». Он человек был прямой, открытый, ему была чужда всякая рисовка, всякое лицемерие. Скольких я знаю преподавателей богословия в Московской и Петербургской академиях, которые потихоньку где-то ходят в туалет и курят! Все начинается с мелочей, понимаете. О. Александр Шмеман говорил, что церковь должна быть прозрачна, как стекло, она должна быть совершенно открытая. Не должно быть никаких тайн и секретов. Ведь Христос же говорит: Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными
. А без свободы вера превращается в тоталитарную секту.
— Часто говорят о том, что семинарии и вообще духовные школы заканчивают люди подчас неверующие. Иногда после окончания обучения выпускники уходят из церкви или переходят в другие юрисдикции и т.д., и мы знаем соответствующие исторические прецеденты. Каким образом можно сочетать собственно передачу знаний и опыта с духовным ростом студента? Мне кажется, что сейчас в богословских школах здесь имеется огромный дисбаланс в этом вопросе.
— Думаю, опять же, примером. Если студент видит, что его профессор — глубоко верующий человек, добрый, старается жить по-христиански, — это одно. А если он видит, что профессор просто отбывает время или, так сказать, просто получает свою зарплату, — это другое. Вера передается очень трудно. У некоторых испытания вызывают укрепление веры. Но очень многие колеблются, когда видят, что «каков поп, таков и приход». Я не знаю ни одного случая во Владимирской школе, чтобы человек, окончив ее, стал неверующим. Не все становятся священниками, но случаев неверия я не знаю. Было несколько случаев перехода к карловчанам. У меня даже был один такой студент. В основном это — новообращенные. Но отказа от веры я не знаю. Наоборот, студенты укрепляются в вере.
— Студентов, как Вы справедливо заметили, на богослужение нельзя загонять в приказном порядке. Но, с другой стороны, нельзя не реагировать на постоянные пропуски, пускать это совсем на самотек. Где-то должен быть баланс.
— Мне кажется, что во-первых, — об этом писал и митрополит Сергий в 1905-ом году, и будущий патриарх Тихон, — нужно сократить богослужения. Ведь в Русской церкви до сих пор нет приходского богослужебного устава. Мы служим по монастырскому уставу. А монастырь рассчитан на 8 часов богослужения в сутки. И естественно, что на приходах каждый священник «режет» службу по-своему. Более образованный сохраняет наиболее важные места, менее образованный — те места, где можно больше попеть, или что-нибудь такое прокричать, или то, что побольше приносит дохода.
У греков существует приходской устав, который совершенно иной, чем монастырский, и службы у них длятся: литургия — час—час пятнадцать, вечерня — сорок пять минут. Ну, изредка — обычно в Великом посту — служат всенощную, но тогда она действительно длится почти всю ночь. Обычно в субботу служится только краткая вечерня, а утреня — не более одного часа — служится перед литургией. Таков порядок и в антиохийском православном приходе, к которому принадлежу и я в Канаде. Кстати, поскольку подавляющее большинство прихожан не может посещать храм в праздники, которые выпадают на обычные дни недели, мы в таких случаях служим вечернюю литургию накануне праздника. Необходимо изменение богослужебного устава.
А что касается семинарской жизни, по-моему, самое правильное то, что создал о. Георгий Флоровский: утром — общая молитва в храме, с пением, очень красивая короткая 15-минутная утреня, вечером — 45-минутная вечерня. Это каждый может себе позволить. Это не мешает учебному процессу. А когда службы двухчасовые, трехчасовые, то человек устает, не может заниматься как следует. Кроме того, существуют в русских семинариях еще бесконечные послушания. Ведь большинство семинаристов делает все, что угодно, — то на картошку их кидают, то еще куда-то. Во Владимирской академии у каждого студента тоже есть послушание, но в начале учебного года ему говорят, что максимум оно занимает 10 часов в неделю. Говорят: ты будешь в саду работать, ты — на телефоне сидеть, ты убирать, ты — на кухне. Каждый знает свои часы, отрабатывает их, а остальное время — его время, для занятий, для личного развития. Никто не нарушает личной свободы. Есть какие-то обязательства, есть свободное время и есть время для учебы. Студент распоряжается этим. В то время, когда он учится, его не могут сорвать с места и куда-то «кидать». Вот это — уважение к человеческой свободе, к человеческой личности, к личному развитию студента, к его проблемам.
Во Владимирской школе очень либерально относятся, когда во время экзаменационной сессии ребята пропускают богослужения из-за подготовки к экзаменам, написания работ. На это смотрят сквозь пальцы. А вот если злостно, в течение трех-четырех месяцев человек не приходит, — другое дело. Так что, действительно, должен быть какой-то баланс, нужно проявлять человеческую мудрость.
— Могут ли студенты в какой-то степени принимать участие в управлении учебным заведением?
— Наверное, могут.
— В чем это могло бы выражаться?
— Это зависит от того, какого масштаба семинария. Во Владимирской академии это было бы не нужно, потому что вся администрация состоит из двух-трех человек. А в большом учебном заведении, скажем, у нас в университете в Канаде, существует университетский сенат, в который входят представители от преподавателей и от аспирантов, и даже один или два от студентов.
Вообще-то в России система управления традиционно очень авторитарная. Я очень люблю Смоленскую семинарию, ее ректор, о. Виктор Савик — мой большой личный друг, но все-таки он правит авторитарно. Его любят, потому что он отец родной. Это русская система, в Америке он бы не прошел. В Америке был бы бунт. А здесь он может и накричать, и ногами натопать, и Бог знает что сделать, но студенты его любят, потому что знают, — он душевный, он теплый, отдает всего себя семинарии. В России эта традиция построена на личном. Это от монархии идет: царь-батюшка, ректор-батюшка и т.д. Так что сравнивать очень трудно.
— Мы в нашем институте столкнулись с большой проблемой: как привить студентам такое чувство, чтобы они воспринимали его как свой дом.
— Да, вот это — важно.
— О. Иларион, делая в упомянутом выступлении исторический обзор церковных школ, начал с общины Христа и указал, что это была Его духовная школа. В то же время это была именно община, которая строится на взаимной ответственности. Такой ответственности нам и не хватает: ни преподавателям за студентов, ни студентам за преподавателей и вообще за школу. А ведь иногда существование школы, допустим, нашей, «висит на волоске» — то того нет, то сего и т.д. Как вы думаете, можно это чувство прививать студентам?
— В английской системе существует так называемая ассоциация выпускников. Люди, окончившие школу, особенно высшую школу, сохраняют связь с ней до конца своих дней. У них выпускается специальный журнал (я, например, получаю такой регулярно от Лондонского института экономических наук, где я учился в аспирантуре). В таких журналах всегда приводятся данные, кто где находится, публикуются различные статьи и, конечно, постоянные обращения за материальной помощью. Эти ассоциации всегда много жертвуют на свою alma mater, так как некоторые из выпускников становятся богачами. В Канадском университете, где я преподавал, есть среди выпускников целый ряд миллионеров. Они дают колоссальные деньги на университет, и из их среды выбирают почетного президента университета. При президенте есть несколько человек, которые председательствуют, но не управляют. И они заботятся о своем учебном заведении. Бывают также съезды выпускников, которые учились 30 лет тому назад или даже 50. И так не только в университетах, но и в средних школах, особенно частных. Так что эта связь сохраняется, школа существует как своего рода семья.
— Обо всем этом заботится администрация?
— Конечно, администрация всегда приглашает их к себе, но и они всегда готовы приехать к ним. Я думаю, что если такая система была бы в России, она тоже давала бы больше таких связей. Мало ли что, в России тоже кто-то может быть благополучен, может помогать своей школе. В Кембридже, Оксфорде существует даже правило, что каждый выпускник этих университетов имеет право преподавать в них, если у него будут студенты. Он может приехать и объявить, что будет читать такой-то курс лекций. Это его личное дело. И если будут приходить студенты, то, в конце концов, его могут поставить на зарплату. Такие отношения снимают казенщину, потому что иначе выпускник получает свой диплом — и все, кончено. Ты учишься, ты — молчи, я тебе преподаю, я тебе даю, ты заинтересован в хороших отметках, а остальное меня не касается: я — твой преподаватель, ты — мой ученик. А здесь получается чувство какой-то семьи, обратной связи (back-play). Эта обратная связь нужна в учебе, особенно в духовных школах.
— Скажите, Дмитрий Владимирович, какой период истории Вы читаете студентам?
— Я читаю Русскую церковную историю вообще, от начала до конца, в зависимости от того, о чем меня просят. В основном просят XX век. И публикации мои по ХХ веку. Вы знаете мой учебничек, — там, конечно, есть слабости, но я и не претендую на всезнайство. Он основан на моих лекциях. Я замыслил и создал этот курс в 1988-ом году, к 1000-летию Крещения Руси. Меня пригласили в один маленький, но очень богатый американский колледж в Кордильерах, — «Колорадо-колледж», чудное место, — прочитать курс по истории Русской церкви как раз в связи с этой датой. И мне пришлось его готовить. Затем я читал этот курс во Владимирской академии, уже после смерти о. Иоанна Мейендорфа. Это уже более требовательная публика, я расширил курс. А потом еще переработал и сделал учебник. Я говорю о том, как делаются учебники. Я не претендую на совершенство, но каждый преподаватель может выпустить по своей специальности такой учебник. И нет никакого оправдания, что за 10 лет в России учебников все еще почти нет.
— А какой период в истории Русской церкви в ХХ веке вам наиболее интересен?
— С 1903-го по 1918-й, до собора и собор — самый творчески увлекательный период: подготовка собора, эти споры, ответы архиереев, потрясающие по своей открытости. Вот если бы сегодня сделать опрос архиереев по поводу желательности церковных реформ, как в 1905-ом году! Интересно бы было. И нужно, чтобы патриархия это сделала, чтобы посмотреть, что вообще напишут. Но они вряд ли это сделают. Насколько я помню, тогда из всех архиереев было только два, которые считали, что ничего менять не надо. Остальные все предлагали изменения, просто одни были за более радикальные реформы, другие за менее радикальные. Но люди открыто говорили о проблемах, о необходимости коренных изменений. Такие надежды были, такая бурлила мысль! Поднимите документы Предсоборного присутствия 1906-го года, и эти тома «Отзывов епархиальных архиереев» — сколько там мысли, это потрясающе! И это действительно было: несмотря на 200 лет синодальной системы, когда, казалось бы, все нарушено, все каноны, мысль все-таки работала. Это, конечно, самое интересное. Также очень интересен Собор 1917–18 года с его постановлениями и с тем, что разрабатывалось предсоборным и соборным советом, протоколы, которые собираются издавать, кажется. Чрезвычайно важно все эти документы довести до церковного сознания. Я уверен, что 90% священников их не знают. И поэтому их удивляет появление вашей общины, о. Владимира Лапшина, для них вы кажетесь еретиками. А ведь некоторые из тех архиереев ушли гораздо дальше того, что вы делаете. Ведь будущий патриарх Сергий (Страгородский) предлагал фактически немонашеский епископат. Почти доходили до вопроса о белом, т.е. женатом епископате. Митр. Сергий предлагал полуцелибат, т.е. он говорил, что если пожилые священник и его жена полюбовно договорятся о разводе, то можно его поставить в епископы без всякого пострига. Потому что иначе при таком постриге получается лицемерие. Потом он поставил вопрос о праве священников на второбрачие — если молодой священник овдовеет. Лично я — против этого. Неприятно было бы видеть священника, который ухаживает за девушками, ищет себе невесту, но, с другой стороны, все-таки это лучше, чем всевозможные искажения, гомосексуализм и все прочее. В.В. Болотов ведь говорил, что решение о целибатном епископате было лучшим для того времени, т.е. оно было принято по прагматическим соображениям. Это решение не носило характер догматический, что вот запрещается брачный епископат. Это традиция, которая может быть изменена. Если бы епископы были подлинными монахами-праведниками, то другое дело. Но таких же единицы. Остальные — монахи только по названию, но не по образу жизни. Такое положение «размагничивает»: в жизнь и образ церкви вклинивается лицемерие, обман — церковь теряет духовную силу.
Помню, как ректор одной из семинарий мне говорил, что на одном совещании в Троице-Сергиевой лавре был общий голос о том, что студенты приезжают учиться с горящими глазами, а уже ко второму курсу их глаза совершенно тухнут, и они делаются циниками. Это самое страшное. Сколько я встречаю таких людей! Ведь как много людей потеряли веру уже в церкви. Возьмите Филарета (Денисенко). Я помню, как он приезжал молодым монахом с покойным митр. Никодимом (Ротовым) в Лондон, служил там с владыкой Антонием (Блумом) и произнес проповедь. Это была прекрасная проповедь о любви, о ее силе и значении, и я уверен, что он говорил совершенно искренне. У меня были друзья карловчане, которые считали, что все представители Московской патриархии — сплошные агенты КГБ. Я записал ту проповедь на пленку и демонстрировал ее им. Их реакция была односложной: «Это же подлинный пастырь!» И вот что с ним случилось в церкви — превратился в циника, в раскольника, в явного, по-моему, безбожника. Верующий человек так поступать не может. Вместо духовного роста в церкви получается наоборот. Значит, что-то не в порядке в этой церкви.
— Как Вы считаете, есть ли перспектива у Русской церкви в ближайшее время обратиться к решениям Собора 1917–18 г., т.е. к тому ближайшему по времени опыту, который в церкви уже есть, к опыту ХХ в.?
— Не знаю, вам виднее. Патриарх Алексий II в самом начале своего служения благословил специальную комиссию, в которую должен был войти и я (но я уехал тогда), и профессор Шульц, издать все материалы Собора. И что из этого вышло? Выпустили несколько томов, которые и так уже были напечатаны, и больше ничего. Я думаю, испугались. Слишком многое нужно менять и слишком во многом нужно покаяться, хотя и не обязательно публичное покаяние устраивать. Шульц пишет в одной из своих статей, что если бы осуществили постановления Собора, немножко приспособив их к реалиям тех лет, то это была бы самая передовая церковь в мире. Значение решений Собора были не менее значительными, чем II Ватиканского собора, но опередили его почти на полстолетия.
— Понятно, почему этого не происходит, для этого есть и объективные причины: очень мало церковных сил, которые могли бы это осуществить. Но все-таки какие-то силы есть. За эти два года, пока наше братство в Москве лишено храма, мы побывали в разных местах, общались со многими людьми и повстречали множество духовно живых и деятельных среди них.
— Т.е., Вы хотите сказать, что вам лучше быть без храма, чем с храмом? (Смеется)
— Нет, конечно, я хочу сказать, что, во-первых, это время для нас не прошло зря и жизнь не остановилась, а во-вторых, — что здоровые силы действительно в церкви есть, и вопрос только в их собирании, актуализации и воспроизводстве. Вот Вы можете сказать как историк: что нужно делать для того, чтобы эти здоровые силы в церкви умножились?
— Ну, Вы знаете, в церкви может существовать союз священников, как в Сербской церкви, например. Во-первых, в таком случае больше общаются друг с другом, во-вторых, они имеют очень большую власть по отношению к архиереям. Было ведь какое-то движение снизу, какие-то союзы и, в основном мирянские, братства. Из этого ничего не получилось, как мы знаем. Т.е. получилось как раз противоположное тому, на что надеялись. Но если хотя бы священники как-то поднялись и выразили свой голос, те, которые смотрят в будущее, а не в прошлое!.. А то все разрознены, все боятся. Сочувствующих о. Георгию Кочеткову очень много, но кто об этом решается говорить! Тут необходимо какое-то действие, необходимо на себя взять какой-то риск.
— Мы имеем ту действительность, которую имеем. Но именно сейчас и нужно что-то менять, двигаться вперед и более всего, может быть, в области богословского образования, так как это — фундамент: как людей научишь, так они и будут думать, работать, служить. И вот пока, кажется, не поздно, нужно действовать. Хорошо, что есть независимые школы, они в силу своего положения сами о себе заботятся. Но через них проходят единицы. Основная масса студентов идет через семинарии, духовные училища, — как там начать возрождение? Как там оживить ситуацию?
— Мне кажется, что в семинариях надо начать с богослужения, чтобы оно было осмысленным. В большинстве семинарий богослужения ведутся очень механически. Например, в той же Смоленской семинарии богослужение мне совсем не нравится. Иконостас совершенно закрытый. Правда, они теперь поставили микрофоны, наконец. Но все равно, как ни странно, очень мало внимания обращается на богослужения. Все по старинке, по привычке: оттарабанил и пошел. А ведь самое главное, у священника должен быть навык богослужения как общения с Богом, как таинства.
— Интересно Вы говорите. Но как же русское религиозно-философское возрождение? Оно ведь возникло, имея тот опыт богослужения, который был в конце XIX—начале ХХ в., который и возрождается сейчас?
— Да, но тогда сразу речь шла о реформах. Именно среди религиозно-философского движения.
— Но откуда они-то возникли? Они ведь в храмах видели то же, что и мы, но в нашей среде такого духовного подъема не видно.
— Большинство из них пришло извне, они искали встречи с Церковью. Это были бывшие безбожники, бывшие народники, бывшие марксисты. Они уверовали, они искали встречи с Церковью, и многие из них остались где-то на уровне теософии — не все ведь пришли в Церковь, многие просто искали. Они пришли в Церковь в основном из теоретического опыта познания, через Владимира Соловьева, через Достоевского, через ранних славянофилов. Они мечтали встретить идеальную церковь, а встретили не то, понимаете? И вот в эмиграции в условиях свободы, на голом месте, в Париже, они, эти Булгаковы и прочие, начали создавать именно ту церковь, о которой они мечтали. Один из образцов богослужения, каким оно должно быть, — во Владимирской академии. Оно действительно прекрасное. Все тайные молитвы читаются вслух, и все понятно, и не слишком долго, сосредоточенно, сконцентрированно. Тамошняя литургия не оттолкнет человека от Церкви.
Проблем, конечно, очень много. О. Александр Шмеман всегда говорил, что мечтает о том периоде, когда у каждого архиерея будет свой церковный устав. Должно быть литургическое творчество, у нас все очень окаменело. Но об этом сейчас страшно и говорить.
— Действительно, сейчас создана такая атмосфера, что о переменах в существующей практике богослужения и заикнуться нельзя. Удивительно, что такого не было еще в начале ХХ века. Хотя тогда было куда больше оснований говорить «о приверженности традициям» и т.п.
— Да, но, конечно, образование было лучше. Почти все епископы были очень хорошо образованы. Владыка Антоний (Храповицкий) сыграл большую роль в духовном возрождении двух академий: Московской и Казанской (из Москвы за реформаторство его выгнали в Казань). В Петербурге этим занимался архиеп. Сергий (Страгородский). Единственная консервативная академия была Киевская. Она была более или менее безнадежная, если судить по тому, что можно о ней прочесть. Киевская была как теперь Московская. А три академии были очень живые. И поколение, которое вышло из этих академий где-то между 90-м годом и революцией, было уже раскрепощенным. Трагедия России в том, что как раз когда началось возрождение, ударила революция. До этого была эпоха открытости. Какие были отношения между ректором, скажем, архиеп. Антонием (Храповицким), и студентами! Правда, было и другое: он признавал только монашеский епископат, и здесь он переборщил, очень много было трагедий из-за поспешных постригов. Но между ректором и студентами были отношения друзей. То же самое было в Петербурге у архиеп. Сергия (Страгородского). Это были молодые, энергичные, реформаторски настроенные архиереи (по-разному реформаторски, у Антония в мыслях реформы были консервативные). Они заражали мыслью студентов, они вместе с ними думали, вместе чаи распивали. Допустимо ли сейчас, чтобы ректор Московской академии распивал чаи со студентами, с семинаристами? И тогда было меньше иерархичности. В монархическом, аристократическом, дворянском государстве было меньше иерархичности, чем в современной демократической России. Парадокс!
— Вопрос по Вашему предмету: существует ли интерес к истории России, Русской церкви?
— По-моему, да, причем даже в гражданских учебных заведениях. Я вот читал лекции в Ростовском университете, в позапрошлом году — в Красноярском университете, на факультете иностранных языков. Ребята даже понятия о русской истории как следует не имеют. Они мне задавали вопросы, что такое ЧК, что такое Политбюро. Не знают уже! У меня было 30 с чем-то студентов, почти никто не пропускал занятий, сдавали экзамены, потом благодарили. Говорили, что им было страшно интересно, что они сначала колебались — записаться ли на курс, думали, что это совершенно неинтересно, а оказалось, что так интересно. Так что потенциальный интерес есть.
— А в семинариях?
— В семинариях тоже. Там, где я читал, у меня довольно благодарная была публика. Вот в Смоленске, я знаю, что меня почему-то любят. Ходят, интересуются и вопросы задают.
Единственное разочарование. Одна из тем, которую я дал моим студентам в Православном университете, — это Собор 1917–1918 гг. и современная Русская церковь, посткоммунистическая Русская церковь. А они в письменных работах просто цитируют мои лекции, к тому же не ссылаясь на источник. Я думал, что они хоть немного мозгами пошевелят, — нет. И каждый про о. Георгия Кочеткова там пишет, цитируя меня. Потому что то, что с вами сделали, я привожу как крайний пример мракобесия.
— Последний вопрос, Дмитрий Владимирович, все-таки о будущем.
— Я же не пророк, я Вам сказал.
— Да, но тем не менее. Как историк…
— Историк в прошлое смотрит, а не в будущее.
— Но все-таки, на основании прошлого можно говорить и о будущем, ведь существуют какие-то законы развития в человеческом обществе. О будущем нельзя не говорить, потому что чтобы жить правильно нам нужно трезво на себя смотреть и при этом представлять, что в результате наших сегодняшних поступков будет завтра. Какие опасности для будущего Русской православной церкви есть в нынешней ситуации?
— Прежде всего, недостаток просвещения. Сколько воскресных школ? Мало. А для взрослых? Тем более. А сколько позакрывалось? Просвещение! Иначе будет такое, как, знаете, в народе иногда говорят — есть мощи Богородицы Казанской и Богородицы Владимирской.
— Просто заколдованный круг. Очевидно, что церковный народ нуждается в просвещении, но когда мы посмотрим на то, кто и, главное, как учит или собирается учить, то можем подумать, что и не нужно такого «просвещения». Заколдованный круг, но выходить из него как-то надо.
— Вот, у владыки Филарета в Минске — он молодец, конечно, — есть богословский факультет в Гуманитарном университете, я там больше вижу надежды на что-то; и академия в Жировицах, которую будут переносить в Минск, потому что они получили помещение. Это, конечно, здоровое гнездо, пока жив владыка. Еще есть владыка Лев в Новгороде, но у него там нет настоящего учебного заведения. Там просто читают любые богословские предметы для желающих — открытый лекторий. В Новосибирске сейчас хороший архиерей, может быть, они что-нибудь соберут. И в Томске хороший архиерей. И там хорошие силы есть — это православные немцы. Все из меннонитов, перешедших в православие. Целое гнездо православных немцев, и все они молодцы большие, на них и Красноярская семинария держится. Знаете это училище? О. Георгий Персианов — ее ректор, а зам. ректора — о. Геннадий Фаст. Славный человек, очень. Вся надежда на немцев! (Смеется)
— Большое Вам спасибо, Дмитрий Владимирович.
— Пожалуйста, но простите, что ничего такого особенно сногсшибательного я не сказал…
Беседовал Дмитрий Гасак