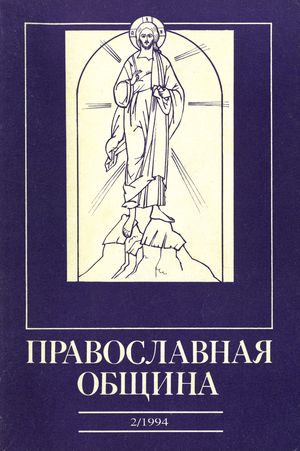Свидетели надежды в кризисном мире
Часто говорят, что надежда — это побег в мечту, совершаемый, когда жизнь становится слишком тяжелой. Однако если всмотреться в надежду, то в ней проступают знаки инобытия: весь тот свет, то добро, та красота, какие оплодотворяют историю, какие дают ей дыхание вечности. Печать вечности лежит на тех, кто отдает жизнь свою за други своя и кто прощает врагов. Вечность проступает в тех, кто снова и снова умирает, чтобы из смерти восстала жизнь и, говоря словами «философа с молотком»,Выражение Ницше. Это образ философа, сокрушающего общепринятые ценности. — Прим. пер. дает возможность хаосу время от времени рождать звезду.
Сначала я буду сознательно, в манере, может быть, несколько иронической, говорить о христианстве как об источнике брожения, как о кризисе, о современности как о кризисе, затем — о возвращении религиозности и, наконец, — о возможном обновлении христианства и о погружении надежды вглубь сердца.
Начиная с библейского откровения и возникновения христианства, мощное энергетическое ядро приводит в движение историю и не дает ей остановиться. Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго» пишет: Что-то сдвинулось в мире, кончилась власть количества, необходимости (это утверждение в действительности говорит о какой-то напряженности, о битве — О.К.): личность, проповедь свободы пришли ей на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной
Отныне Царство таится в истории как сокрытый жар в недрах вулкана и порождает непрестанное обновление — если не потрясения, то по крайней мере, кризис. Устремленное к концу, за которым не будет конца, к преображению твари, христианство не может прочно утверждаться в завершенных формах, за которые его упрекал Ницше, упрекали и упрекают все неоязычники. И каждый кризис, каждый великий момент потрясения приводит ко все более яркому осознанию бытия, к новой вспышке в огнях духа еще одной из неисчислимых граней того алмаза, который есть Тело Христово.
В эпоху позднего средневековья, когда христианство было близко к тому, чтобы выродиться в преследовании еретиков и иудеев, восстали пророки духовной свободы — Симеон Новый Богослов на Востоке и Франциск Ассизский на Западе. Впрочем, выродиться христианство не могло. На Западе кесарю противостоял папа, на Востоке — монахи. В XVI веке, когда турки, взяв Константинополь, подошли к стенам Вены и Венеции, когда Реформация раздирала западное христианство, ключ духовности забил в Германии, Испании, Италии и Франции. Сама реформа католичества родилась из осады Рима германскими ландскнехтами в 1517 г.
В XVIII веке кризис эпохи Просвещения был кризисом подросткового возраста с его стремлением все подвергнуть независимой критике, все самому проверить, но и со скороспелым отрицанием. На этот кризис Восточная Европа ответила Добротолюбием, обновлением сердечной молитвы: французской энциклопедии только просвещенного рассудка, немецким энциклопедиям ночной магии противостало великое греческое Добротолюбие — истинная энциклопедия божественного света.
Кризис модернизма
И вот, мы подошли к главному кризису, кризису модернизма, ставшему в наши дни планетарным явлением. Мне кажется, что в максимально упрощенном виде его возникновение можно охарактеризовать двумя основными чертами: взрывным развитием науки и техники и торжеством индивидуальности.
Наука и техника имеют библейское и христианское происхождение в большей степени, чем об этом принято говорить. Библия лишает космос божественности и устанавливает его собственный, присущий ему состав. Космос — это не божественный океан древних магий, не игра и не призрачная манифестация божества индуизма, это творение Бога, зеркало Его премудрости, доверенное ответственности человека.
Вероятно, стоит вспомнить и о том, что из магического космоса языческой древности демонические силы изгнали монахи, что именно они утвердили личность в ее свободе от небесных светил. Догматы неразделенной Церкви выработали антиномичное мышление, мышление напряженное, открытое, динамичное, которое и поныне остается движущей силой научного поиска. Аскеза ученого, аскеза исследователя, строгость, критический дух, все новая и новая постановка вопросов разрушили неподвижную мечтательность традиционных обществ.
Но в итоге современное христианство бросило космос, предоставив его самому себе, в то время как в видении отцов, в видении св. Франциска Ассизского, св. Бонавентуры, великих богословов средневековой Византии он был призван к преображению. Западные христиане были одержимы заботой об индивидуальном спасении, а на Востоке богословие божественных энергий и света осталось тайной монашества и перестало пронизывать своими лучами культуру.
Так мир был отдан непросвещенному рационализму и тем самым — воле к власти и воле к прибыли. И отсюда произошли, с одной стороны, сциентистская идеология, препарирующая вещи и лишающая их тайны, а человека — его духовного измерения, а с другой стороны, угроза самоубийства мира из-за нарушения ритмов и границ экологического равновесия, из-за прометеевской зачарованности вседозволенностью в биоэтике, наконец, из-за того, что поставлена под вопрос жизнь на поверхности земли. Подумаем о тех вещах, которые уже стали привычными: озоновые дыры, угроза истощения полезных ископаемых, лесов и морей. Неявная формула этих глубоких деформаций состоит в том, что не задаваясь вопросами о последствиях, надо делать все, что технически и научно возможно, как будто мы обречены жить только техническим прогрессом.
Торжество индивидуальности, по крайней мере в той степени, в какой индивид является не редукцией, а зерном личности, также коренится в Библии и христианстве. Для Бога Живого, Бога Личного человек предстает как «ты», как участник диалога. За видимостью рока и греха Христос раскрыл личность.
По образу Троицы человек призван реализовать себя в общении. И конечно, закваска персонализма и свободы выработала и возвысила культуры, отмеченные воздействием христианства. Достаточно вспомнить провозглашение прав человека в конце XVIII столетия, непримиримое противостояние тоталитаризму — будь то Бонхеффера, Максимилиана Кольбе, Солженицына, Валенсы или Пореша. Однако и здесь деформации очевидны. Клонясь к закату, христианские народы согрешили против свободы, против красоты, против таинства брата, которое св. Иоанн Златоуст считал неотделимым от таинства алтаря.
С другой стороны, самодовлеющий гуманизм привел к претензии все объяснить и над всем господствовать, а провозглашение «смерти Бога» превратило гуманизм в антигуманизм. За смертью Бога последовала смерть человека, как заметил во время революции в России Николай Бердяев. Так наступила эпоха нигилизма. Помните крик безумца*: Где Бог? — воскликнул он. — Я вам скажу — мы убили Его, вы и я. Но как мы могли это сделать, как мы могли исчерпать море? Кто дал нам губку, чтобы стереть целый горизонт? Что мы сделали, что отделили землю от ее солнца? Куда она теперь катится, есть ли еще верх и низ, не бредем ли мы сквозь бесконечное небытие, не чувствуем ли мы дыхание пустоты, не становится ли все холоднее и холоднее, не становится ли ночь все темнее и темнее?
Нигилизм. Сначала — нигилизм теплый. Нигилизм великих идеологий, нигилизм, возвращающий к язычеству: «Земля и кровь» нацизма или секуляризированное иудео-христианское чаяние — марксизм. За ним последовал нигилизм — холодный после того как пепел Освенцима, снега Колымы, обагренные кровью рисовые поля Камбоджи погасили опьянение тоталитаризма. Холодный нигилизм, нигилизм тех, кто потерял мужество быть, нигилизм подростков-самоубийц, нигилизм циничный, нигилизм потребительского наслаждения, грубого или тонкого, нигилизм пыток. Секс и деньги, тяжелый рок и наркотики овладевают Европой и довершают процесс распада.
Возвращение религиозности
Но невидимой основой нигилизма является небытие. Подавленная тоска разряжается в каком-то духовном неврозе и безудержном поиске предельных состояний, чтобы забыться. В этом слышится стон души, и наступает возвращение религиозности. Возвращение религиозности происходит через многообразие индивидуальных поисков, через свободу и субъективное начало в человеке. Западная цивилизация культурно открыта и проницаема, она поглощает архаические образы и мифы. В нее проникают восточные религии. Например, во Франции тибетские иммигранты основали многочисленные монастыри, из которых льется свет. Многочисленные обращения в ислам отчасти объясняются присутствием по крайней мере двух миллионов мусульман, молящихся у всех на глазах, а также и влиянием работ, которые представляют шиитскую мистику как идеал света.
Обнаружение техники погружения в себя восточных религий отвечает на потребность человека в единстве и освобождении через осознание тела и его гармонии с универсумом. Что-то вроде науки или духовного сциентизма, ностальгии по иному знанию, по некоему «веселому знанию», начиная с астрологии и кончая научным рассмотрением парапсихологии, овладела им. Это и тема реинкарнации, воспринятая на Западе как странствование одного и того же индивида от одного существования к другому, в то время как ни индуизм, ни буддизм ничему подобному не учат. Этот вариант реинкарнации кажется более понятным и менее жестким, чем традиционное представление об аде.
Так происходит переход от закрытого материализма к спиритуализму, открытому всем ветрам, всем духам. И поэтому возвращение религиозности облекается в многочисленные формы, часто сомнительные и двусмысленные. Я хотел бы сказать прежде всего о них.
Таково отвержение истории, будь то поиск убежища, ковчега, будь то откат к исчерпавшим себя историческим формам. Эта позиция сопровождается ненавистью к мифическому Западу и современности, сведенной исключительно к ее негативным сторонам. Такого рода секта выглядит как среда, авторитарная и сплоченная одновременно, извне поддерживающая разрушенных людей, которые выходят из одиночества, соединяясь в утерянном культе «хозяина». Они горды тем, что отделены, они горды тем, что числятся среди малого числа спасенных, что могут проклинать всех остальных.
Иногда религиозность деградирует в сторону изживших себя форм, которые идеализируются и превращаются неприметным образом в идеологию. Эта опасность исходит от нынешнего бунта Востока. Понятно, что не от ислама как такового, но от радикального исламизма, стремящегося силой законсервировать традиционное общество, потрясенное современным миром. Конечно, не от иудаизма как такового, но от религиозного сионизма, ничуть не менее радикального, регрессирующего от Бога пророков к неумолимому Богу завоевания Ханаана. Эти же тенденции развиваются внутри крупных христианских конфессий: неопротестантские секты, особенно в Америке, схизма лефевристов в католическом мире и все то православие, которое одеревенело в смешении духовного и культурного, то есть в национализме или религиозном мессианизме, от Белграда до некоторых монахов Афона и многочисленных русских консерваторов.
Подобные тенденции дискредитируют возвращение религиозности и усиливают кризис. Я вспоминаю директора одного крупного парижского еженедельника, который недавно сказал: «Я вернулся из Ливана. Нет ничего более отталкивающего, чем этот бог монотеистов, который оправдывает взаимную бойню». Гностическая воля к могуществу утверждается более тонко. Хорошо известно, что представляют собой продукты азиатского экспорта под названием «трансцендентальная медитация» или просто дзен, соответствующим образом поданый, чтобы нравиться.
Для многих на Западе речь, конечно, идет просто о контроле над телом, об умиротворении и расширении сознания, о лучше прожитом воплощении, которое может найти место в христианском синтезе. Все это состоялось или почти состоялось для элементарных форм йоги и некоторых японских боевых искусств. Но если идти дальше, то можно соскользнуть в объятия видения, где божественное не более чем глубинное измерение мира, где его сущность, принятая за абсолют, не превосходит, но обостряет «я» западного человека в каком-то невероятном духовном нарциссизме.
Налицо и вторжение гностической погони за могуществом. Заявляют о себе сложные эзотерические системы, в некоторых сторонах своего возвещения даже превосходящие туманность New Age, но к которым не стоит относиться с пренебрежением. Я склонен думать о наступлении утонченного синкретизма в трансцендентальном единстве религий, начиная с метафизики Рене Генона и абсолютной структуры Раймонда Абеллио и кончая метафашизмом Юлиуса Эволы, — и это только в рамках латинского мира.
Открытое христианство
Опорой надежды может быть только радикальное обновление христианства, то, что Владимир Пореш называет «открытым христианством». Здесь я хочу лишь уточнить некоторые из интуиций, которые, как я думаю, вам уже знакомы. Во-первых, нужно, я бы сказал, рельефно явить бескорыстие — полное, ничему не служащее, но все освещающее. В обществе, где все продается и все покупается, где из всего извлекают монету, где все опошлено, в конце концов не остается ничего значительного. Равнодушие и насмешка — пена нашей цивилизации.
Симона Вейль в своей книге «Укоренение» восстает против воспитания, которое не открыто к тайне, а искусно ее обходит. Настоящее образование то, которое питает душу, ставит человека перед невыразимым. Оно учит его удивляться, оно учит его восхищаться. И это то, что, как мне кажется, должно осуществлять христианство: ставить нас перед лицом реальности, которую нужно созерцать, возвращать нас к восхищению бытием и томлению быть, тому томлению, которое само через животворящий Крест становится источником восхищения.
Нет необходимости настаивать на кризисе языка в нашем обществе. Может быть, литургическое славословие, хранимое в глубине бодрствующего сердца, в силах вернуть языку его службу любви и тайне, его способность «нарекать душу живую», вновь обрести то, о чем сказано в книге Бытия. Свидетельствовать о Воскресении через праздник, через радость и более всего через деятельное сострадание, которое есть внутренний импульс и нашего движения, — не является ли это единственным средством радикального исцеления от насмешки и равнодушия? Обличение стоит не так много — надо служить, надо созидать.
Второй момент — надо быть на уровне высшей правды.
В обществе, где техника приобрела силу рока, а произвол индивида понемногу размывает все ориентиры, Церковь — я употребляю слово «Церковь» в единственном числе — должна будить сознание. Она должна напомнить о таинстве помощи бедняку на уровне межличностных отношений и в планетарном масштабе, о тайне человеколюбия и чадолюбия. И она должна противостать варварству технократии и напомнить современным людям, если они хотят жить вместе, что ценен каждый из них и что иудейская, греческая, христианская традиции сформировали наше чувство личности. Если смотреть глубже, то мы призваны утвердить права самой жизни. Жизнь имеет свой смысл, в глубине вещей лежит не небытие, но любовь. Любовь распятая, любовь, которая снова и снова воскресает.
Святые, и надо сказать, что их много больше, чем принято думать, часто незамеченные или даже непринимаемые, ежедневно приносят тому доказательство. Бог воплощается, Бог пребывает с нами, разделяя радость Каны, как и ужас страданий Гефсимании. Он торжествует над смертью и адом, чтобы открыть нам пути Воскресения, которые тоже часто остаются незамеченными и неожиданными. Он дает смерти, как и жизни, вкус Пасхи, Он бессмертен, и бессмертие отныне может распространиться на весь мир. Он есть неодолимое восстание жизни против смерти.
Итак, вера, полная открытость, надежда становятся благословением жизни, несмотря ни на что и, безусловно, именно этого благословения и ждет наше общество и имеет в нем настоятельнейшую нужду. Два года назад один телережиссер, тогда еще советский, с некоторым ироничным любопытством снимал группу христиан. Среди них он заметил молодую женщину. Ее молодость и красота побудили его дать крупный план и спросить у нее: «Итак, Вы счастливы, оттого что Вы христианка?» Она ответила: «Я страдаю, как и весь мир, но христианином становятся не для того, чтобы быть счастливым, христианином становятся, чтобы быть живым».
Личность вне редукций
Третий момент — необходимо предложить обновленное восприятие Благой Вести. У христианской эпохи были и свои символы: Бог внешний, внешне всемогущий; объяснение зла как наказания Божия, как кары Божией; оправдание через единодушие, единодушие, впрочем, принудительное. Это путь тоталитарного мышления. Сегодня эти символы не срабатывают совершенно, разве что в сектах, и то, как их применяют ультратрадиционалисты, большие любители, как я уже говорил, ада для других, окончательно их дискредитирует.
Таким образом, с чего начать, если не с самого человека? С несводимости личности, как это делали русские философы. Секулярное общество о Боге молчит. Не есть ли эта странная стыдливость часто то, что отцы-аскеты называли забвением? Здесь наша позиция могла бы состоять в том, чтобы «углубить человека в экзистенцию», как говорил Кьеркегор, углубить в экзистенцию через подлинную культуру. Если говорить совсем просто — пробудить его.
В течение нескольких лет я преподавал историю в парижском лицее, и пытался, когда речь шла о XIX веке, говорить с жаром о Марксе, Ницше и Достоевском. Но я не свидетельствовал. Я был скован обязательством придерживаться рамок светского образования, и много раз случалось так, что после занятий ученики подходили ко мне, чтобы поговорить как мужчина с мужчиной, чтобы задать мне фундаментальные вопросы. Так мало-помалу нам нужно нащупывать язык, который сохраняет сдержанность, но не допускает молчания. Язык для того, чтобы сказать: Бог есть радость и свобода человека.
Другой момент — важно подчеркнуть, что Евангелие — это прежде всего Крест и Воскресение. Наш Бог — Бог воплотившийся, страдающий, Бог-Освободитель, сообщающий нам всеобъемлющее дыхание жизни. О Нем нельзя говорить иначе, чем на языке жизни, на языке порыва, на языке страстной любви. Отцы церкви (православные всегда говорят об отцах церкви) настаивали на том, что прошедший Страсти, Тот, Кто познал смерть и ад, есть сама личность Слова. В Гефсимании Бог страдает всеми нашими человеческими страданиями в их пределе. На Голгофе, когда Христос говорит: Боже, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?
— так, как будто Бог стал атеистом вместе с нами, именно в этот момент все обращается в свою противоположность.
И в этом не узнаем ли мы сегодня, в самый разгар кризиса, то, что, возможно, так глубоко еще никогда и не знали, — переворот одряхлевшего представления о Боге, за которое мы еще так часто цепляемся? Нет более Бога самодовольного, Бога внешнего, Бога, готового нас раздавить. Но есть Бог «истощенный», по слову ап. Павла, «истощенный от любви», Бог, Который дарует Себя, как говорится в Прологе Иоанна, и Который действительно может разделить с нами нашу участь, чтобы разбить двери нашей темницы. Со времени Воплощения и Пятидесятницы мы вошли в глубочайший кризис, кризис воскресения, в котором спасение не индивидуально, не коллективно, а соборно и космично. Вот почему те, кто достигал вершин духовной жизни, не переставали молиться о всеобщем спасении, не ставили границ своей надежде, считая, что говорить об аде можно только по отношению к себе, проливая кровь своего сердца и усаживаясь за один стол с грешниками, как говорил старец Силуан и св. Тереза Младенца Иисуса, чтобы все люди спаслись.
Еще один момент состоит в том, чтобы настаивать на неразделимости двух измерений: общения и преображения. Объятые шумом и разделяющимися языками Духа, мы призваны к участию в тайне тайн, в тайне Божественной любви. Как писал Андрей Тарковский, комментируя свой фильм «Андрей Рублев», божественный ритм любви, конкретное разделение одного в трех и тройственное единение в одном открывают захватывающую перспективу на будущее, еще теряющуюся в веках
По образу Троицы каждый призван к тому, чтобы отдать свое собственное лицо Телу Христову, охватывающему все человечество, отдать и лицо своего языка, своей культуры, своего народа. Нужно, чтобы церковные общины стали теми центрами, откуда изливается соборность. Пусть наша жизнь разделится и пусть умножится, как преломляемый хлеб. Да не забудем мы, что на иврите слово, означающее хлеб, «лехем», также означает танец, мечту, примирение, прощение.
Это — соборность и преображение. Человек пророческого духа — это человек пробужденный и пробуждающий. От него исходит жар христианского сердца, отныне имманентный плоти мира. Будущее Царство, уже таинственно присутствующее, вырывает нас из всякого болота отчаяния и ужаса. Небесный Иерусалим грядет на землю, всю землю, но освященную горением и трудами людей, открытых Слову, людей, алчущих правды и красоты. Наша надежда — освобождение каждого человека и всех людей от рабства смерти во всех ее формах: духовной, культурной, социальной и политической тоже, ибо человек и спасение человека неразделимы.
Предвосхищая эсхатон
В свете этого нам нужно будет безбоязненно встретить те серьезные проблемы, которых христианам не удастся избежать в третьем тысячелетии. Это проблема христианского истинного знания, в частности, знания вселенной, проблема космологии. Проблема отношения к телу и к земному миру. Наконец, встреча с нехристианскими религиями. Мы предчувствуем те пути, которые мы должны приготовить, и есть те, кто их уже готовит. Это путь сознательного сердца, умного сердца и тела, воскресающего в горниле этого огненного сердца.
Этот путь идет через аскезу, переставшую быть только делом монахов, но ставшую аскезой человека-творца и человека брачного. Это путь евхаристического, Христова отношения ко вселенной. Знание созерцательное, направленное вверх, символическое, придет, чтобы осветить и дать ориентиры знанию чисто рациональному. Это путь интеграции силой Святого Духа во Грядущем Христе имманентного и трансцендентного, Себя и Другого, то есть двух духовных полусфер человечества, которые можно было бы метафорически назвать полусферой индийской и полусферой семитской.
Одновременно Дух Святой представит в ином свете, освободит от ограниченности достижения и поиски современного гуманизма. Вместе с религиями пророков, такими, как иудаизм, возможно, и ислам, мы засвидетельствуем, что только Закон Божий делает человека человечным, вырывает его из царства смертоносных влечений, но мы уточним, что Воплощение, Пятидесятница, откровение Троицы ведут личность к абсолютному совершенству так, что этика закона должна раскрыться в этике творческой любви.
Мы последуем за исламской мистикой в ее восхищении перед неприступным, за мистикой Индии в ее настойчивом самоуглублении, но мы уточним, что сверх угасания ради утверждения Единого, сверх растворения индивидуума в океане света раскрывается бездна Бога Живого — «Авва, Отче», — Бога Живого, Который ищет слияния без растворения, в Котором само единство возносит ради вечно обновляющейся любви творение в его инаковости Творцу.
Мы пойдем дальше Ницше, который незадолго до того, как впасть в безумие, мечтал: «За пределами льда, севера, смерти — наша жизнь, наше счастье». Дальше — потому что Воскресение Христово ломает леденящую, дышащую севером стену смерти. Потому что Животворящий Дух действительно торжествует над духом придавленности, несет нам настоящую легкость, истинную радость, пространство, в котором можно быть преданным земле, потому что земля стала таинством.
Мы пойдем дальше Маркса и неолиберализма, потому что смысл Богочеловечества один может быть основанием того понятия о человеке и обществе, которое не забывает также о духовном измерении человека, которое помнит об экономических и социальных корнях, но еще более помнит о его непосредственной укорененности в Небесном Отечестве.
Мы пойдем дальше Фрейда, ибо истина желания состоит в том, чтобы опровергнуть смерть, и только ожидаемое и наступающее воскресение открывает желанию бесконечность, только оно вырывает нас из этого культа смерти, который преследует западную культуру, в конечном счете — и мысль самого Фрейда.
И пойдем дальше New Age, о котором я говорил выше, свидетельствуя о Христе, о Котором я сказал бы, что Он тео-антропо-космичен, что Он объединяет полноту Божества, полноту человека и полноту космоса в сиянии энергий Святого Духа, Дыхания Животворящего.
В этой брани мы готовим эсхатон, мы живем им раньше, чем он наступил, в символах, творениях и событиях цивилизации надежды. Здесь вырисовываются две основные задачи: дать возможность культурам третьего мира обуздать мир вещей и полностью осознать статус личности, не теряя своей самобытности в антикультуре индивидуализма и машинной лихорадки. С другой стороны, не надо препятствовать западному поиску, но оплодотворить его, расширить его поле через духовную интуицию, через безусловное уважение личностного начала, через видение природы, вдохновленное «Песнями твари» Франциска Ассизского или «созерцанием природы в Боге» в православной духовности.
Поэтому нам предстоит призвать, целиком сохраняя открытость гуманизма, к приоритету этики над техникой, личности над вещами, поэзии над политикой. Говоря кратко, призвать к творческой духовности, которая чем больше погружается в Бога, тем более способна преобразить самые основы общества и культуры.
Надежда — присутствие в ожидании
Итак, последнее, о чем я хотел бы напомнить — не призваны ли мы погружать надежду в глубину сердца для того, чтобы в нашем служении явить ее вовне? Из терпения, но терпения творческого, рождается надежда, которая с этого момента его поддерживает и укрепляет. Мы живем ожиданием пришествия Бога, надеждой на возвращение каждой вещи к ее жизни в Боге, ставшем человеком, ожиданием Царства, которое «внутрь нас есть» и которое притягивает нас подобно магниту. Потому можно назвать надежду видением грядущего как уже наступившего — так, как говорил о ней св. Павел.
Вера тоже касается вещей, как говорит апостол, которым еще только предстоит наступить, но она еще не обеспечивает верующему участие в реальностях, тогда как надежда таинственно убеждает нас в этом участии. Надежда есть как бы углубление веры, созревание веры, откровение проницаемости времен, концентрация веры до степени очевидности того, что мы видим гадательно.
Грядущий, Христос Прославленный, Царство — все это уже таинственно присутствует в Церкви как тайна, как парусия, парусия, которая означает одновременно ожидание и присутствие в Духе Святом Того, Кто грядет. Основное измерение в надежде — присутствие в ожидании, «уже» и «еще не».
Царство, которого мы чаем, уже таинственно присутствует. Оно действует, оно ведет подкоп, если можно так выразиться, под временем, оно его минирует изнутри. Надежда пробивает каким-то образом путь сквозь время к тому событию, которое уже произошло, к грядущему, которое будет полным откровением этого события, сквозь времена, или точнее, сквозь саму толщу времени, как слышно разносящиеся в дымке звуки пасхальных колоколов.
Надежда, как и тревога, толкает человека вперед, к будущему, но совершенно иначе. В тревоге кроется будущее, несущее страх, от которого хочется отгородиться, но о котором человек знает, что отгородиться от него никак невозможно. Надежда открывает будущее, в котором раскрывается таинственное присутствие, делающее нас своими участниками. Она вызывает в нас доверие и приносит утешение.
В душе не могут сосуществовать тревога и надежда, но через веру, смирение, молитву, в служении тревога превращается в надежду. Тревога и надежда соединены в одной теме, теме будущего. Для тревоги будущее только имманентно, оно — в тисках необходимости. В истории Ирода и Пилата, в истории избиения младенцев оно подобно бездне и, в конечном счете, оно — смерть и небытие.
Для надежды мое будущее — Христос, и Он уже пришел. Он грядет, чтобы явить Себя в славе и силе. Он дает возможность мне лично и всем нам вместе — и в этом все та же тайна Церкви — превратить любую ситуацию смерти в ситуацию воскресения. И это история блаженных, это история общения святых, в добродетелях которых, по словам одного раннего богослова, проступает понемногу лик грядущего Христа.
Насколько надежда питается доверием, настолько тревога питается неуверенностью и затравленным бегством перед лицом пустоты. Безусловно, беспокойство есть и в надежде, но оно проницаемо, подвижно, способно слышать, не вызывает удушья в противоположность неуверенности тревоги. Оно есть просто необходимое внимание к тому, чтобы не забыть и не потерять руку Христа, Который во мраке вырывает меня, вырывает нас из смерти и ада.
Один древний аскет, монах Марк, говорил: Сердце, в котором живет Христос, не может открыться иначе как через надежду, которая объемлет все
Когда открывается глубина сердца, то оно бывает захвачено надеждой, тогда приходит мир, тот мир, который дает Христос, который не от мира сего. Это о нем говорил святой Серафим Саровский: Стяжи дух мирен — и многие вокруг спасутся
Надежда приходит к нам, когда наше отчаяние не замыкается на самого себя, но распахивается навстречу Тому, Кто сораспинается с нами, чтобы открыть нам в Себе, в Духе Святом, пути воскресения. Когда сердце раскрывается, когда сердце каменное становится сердцем плотяным, тревога, отчаяние, безнадежность исчезают понемногу по мере того, как размягчается ожесточенное сердце, корка, которая прятала наше истинное сердце. Отныне нет более идеологий, умозрений, и прежде всего умозрений богословских, которые мы принимали всерьез. Отныне есть люди. За игрой масок и страстей мы обнаруживаем, что они есть.
Перевод с французского Алексея Костромина