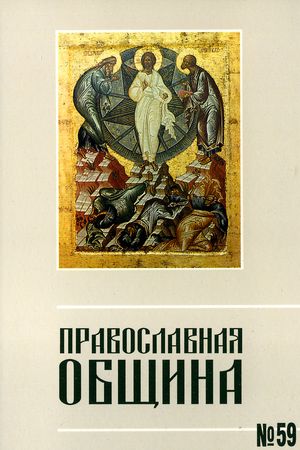«Путь открытой любви». Общины и общинность в истории русской церкви
Беседа в Свято-Филаретовской московской высшей православно-христианской школе
В своем историческом существовании церковь знает для себя прежде всего один пример, одну путеводную звезду — Иерусалимскую общину Господа. И для христиан всех поколений невозможно не сравнивать свою жизнь с жизнью общины Господа и невозможно не стремиться к осуществлению глубины ее жизни в жизни своей. И если мы вспомним определение Церкви, которое давал о. Иоанн Мейендорф, что Церковь — это община, движимая Духом Святым, то нам будет ясно, что говоря об истории Русской церкви, мы не можем не говорить об истории общины. Потому что община, которая есть связь любви, кинония, общение, составляет само существо церковной жизни, а не просто одну из ее форм. Вне этого общения, вне этой кинонии Церкви просто нет. В древнем, так называемом Апостольском символе веры тот член, который в Никео-Цареградском символе веры произносится: «Верую во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», выражается несколько иначе, хотя по смыслу и очень близко: «Верую во общение святых». Поэтому когда мы говорим об общинах в церковной истории, мы говорим не о какой-то редкой или, наоборот, распространенной форме устройства церковной жизни, а говорим именно о явлении самого существа церковной жизни.
Русская церковная история открывает нам очень большой и серьезный опыт общинной жизни.
Подчеркнем этот момент: в ту меру, в которой в нашей церковной жизни проявляются элементы жизни общинной, именно в эту меру наша церковная жизнь и является подлинно церковной. Потому что церковная жизнь не может быть индивидуалистической, даже если по условиям времени или в определенных обстоятельствах человек находится совсем один.
Первый же человек, о котором нам нужно сказать особо, — это основатель русского монашества, основатель русской монашеской общины прп. Феодосий Печерский, основатель Киево-Печерской лавры. У прп. Феодосия был учитель — прп. Антоний Печерский, но он не был начальником общежитий, общинной жизни. А прп. Феодосий — был. Время жизни прп. Феодосия — примерно через 50 или несколько больше лет после крещения Руси. Это, надо думать, не случайно: в первые десятилетия после крещения Руси мы не могли бы еще всерьез говорить о каких-то личных примерах общинной жизни, и не только из-за отсутствия источников: ведь чтобы созрел какой-то плод, нужно определенное время.
Итак, основатель первой общины на Руси — это прп. Феодосий. Надо сказать, что в константиновский период церковной истории в формах христианской жизни было важное различие, которое мы должны учитывать. Вы знаете, что в этот период было очень важно монашество, и наряду с монахами были люди, которые в традиции назывались лаики, «верные» (не очень точно их называют «мирянами»), т.е. были монахи и миряне. И если в монашестве с самого начала (с рубежа III–IV вв.) стремление к общине было ясно видно, то стремление мирян к общинной жизни было не столь очевидно и не столь ясно; не очень понятно, где и как оно могло реализоваться. Дело в том, что в эмпирической церковной жизни всегда были попытки подменить общину и общинность какими-то лишь внешними формами. Существует, например, географический принцип организации церковной жизни — приход, состоящий из тех, кто живет на определенной территории, и это как бы некоторое подобие общины. Но если мы с вами будем рассматривать опыт монашеских общин, то увидим, что они собираются по другому принципу — по принципу некоторого духовного единства. В основе их лежит стремление радикально решить вопрос христианской жизни, и самая распространенная форма проявления этого стремления — это объединение вокруг своего духовника. Остановимся теперь ненадолго на этом понятии — духовник.
Начиная разговор о духовничестве в Русской церкви и связанной с этим общинностью, мы не сможем обойти написанную в начале ХХ в. книгу профессора Московского университета Сергея Ивановича Смирнова «Древнерусский духовник». (Интересно, что это едва ли не первая книга на церковно-историческую тему, переизданная массовым тиражом во время перестройки, хотя такой выбор кажется очень странным: книга эта довольно научная. Думаю, причина этого — в привлекательном названии.)
С.И. Смирнов пишет, что в Русской церкви было два основания для того, чтобы общины были не только монашеские, но и, условно говоря, мирянские. Первое основание, оказавшее огромное влияние на русские общины, — это духовническая практика и те монастырские уставы, которые были приняты на Руси. Второе — древнерусский юридический семейный строй. Я объясню, в чем тут дело.
Прп. Феодосий, который считается отцом русского монашества, был и первым русским духовником в прямом смысле слова. Первоначально, в первые десятилетия, духовенство у нас было греческое и, быть может, еще южнославянское (болгарское). (Точно так же обстояло дело и с книгами: ведь непереводной богословской литературы в древнерусский период церковной истории у нас не было.) Прп. Феодосий взял для своей общины устав прп. Феодора Студита. Этот иноческий устав был очень важным и влиятельным в истории Русской церкви, был одним из главных уставов. А устав этот — общежительный, основанный на том, что монахи живут общиной. Монахи же свободно выбирали себе духовника, так что люди, которые группировались вокруг духовника, и составляли монашескую общину. Таким образом, это было дело принципиально свободное, осуществлявшееся не по географическому принципу. Точно так же и древнерусская юридическая практика, связанная с семьей, говорила о том, что семья создается также свободно. И это было весьма благоприятно для общинной формы жизни.
Теперь перейдем к одному тонкому моменту. Проф. Смирнов, размышляя о древнерусской покаянной дисциплине, о духовничестве, ввел важный термин и хорошо его обосновал. Этот термин у него внешне претерпевал изменения, т.е. он, говоря об одной и той же реальности, употреблял немного разные слова. Первоначально он говорил о «духовной семье». На каком основании он употребил этот термин? Если есть духовный отец и его духовные дети, то что же это такое, как не духовная семья? Но дело в том, что в древнерусской покаянной практике духовника называли по-разному: «духовный отец», «покаянный отец», «исповедный отец», «душевный отец» и т.п., поэтому и Смирнов употреблял разные названия. Сначала он говорил о «духовной семье», потом в своей книге он употребляет слово «покаянная семья», или «покаяльная семья». Причем, к счастью для Русской церкви сложилось так, что эта семья образовывалась не по административно-географическому принципу, а по принципу свободного выбора духовника. И вот эту группу людей, собравшуюся вокруг определенного духовника, Смирнов и называет «духовной семьей», или «покаяльной семьей». Все ревностные христиане искали себе духовника и вместе с духовником составляли такую духовную семью. На протяжении веков (по крайней мере, до петровского времени) Русская церковь состояла из таких семей. Подчеркнем, что эти семьи не определялись границами прихода. Приход с приходским священником был как бы административно-географической единицей, но очень часто (кроме тех мест, где на много-много верст был только один священник) духовник и приходской священник не совпадали. И таким образом, параллельно сосуществовали две формы церковного устройства: административно-географическая, т.е. приходская, и также чрезвычайно развитая форма покаяльных семей. И это было нормой жизни церкви. Надо сказать и о существовании похожей греческой практики, с которой русская церковная жизнь как бы брала пример.
Как велики были покаяльные семьи? Опыт жизни подсказывает, что покаяльная семья не должна быть очень большой. Сохранилось письмо Посошкова сыну (начало XVIII в., время патриаршего местоблюстителя митр. Стефана (Яворского)), где дается совет, чтобы покаяльная семья не была больше 20–30 человек. Хотя некоторые духовники стремились к большему. Скажем, протопоп Аввакум имел покаяльную семью около 500–600 человек, но это было связано и со спецификой его времени, и с его очень яркой личностью. Но это считалось нежелательным.
Через прп. Сергия мы переходим к монашеским общинам. Начиная с прп. Феодосия, линия монашеского общежития, монашеских общин пошла дальше: через прп. Сергия и его учеников — к заволжским старцам, к нестяжателям, к преподобному Нилу Сорскому. Это были люди, которые взыскали Духа и знали, и очень хорошо понимали, что Дух дается в общине. И поскольку всегда, во всех поколениях есть христиане, которые жаждут Духа, взыскуют Его, поэтому в каждом поколении были и есть лучшие примеры общинной жизни для всей церкви.
Так, Нил Сорский видел путь обновления духовной жизни в устройстве скитской жизни (скит — это небольшая монашеская община, 10–12 человек, живущая отдельно от других монахов монастыря). Это было связано с тем, что к его времени общежительные монастыри слишком разрослись и превратились в огромные комплексы, слишком вовлеченные во внешнюю, в том числе хозяйственную деятельность. Естественно, личностность и связанная с ней общинность терялись, т.е. равновесие было утрачено. Тогда, правда, восстановить равновесие не удалось, поскольку нестяжательство было разгромлено (этот разгром принес и приносит нашей церкви огромный урон). И тем не менее, несмотря на этот внешний разгром, внешнее поражение, нестяжательство, «заволжские старцы» с их опытом скитской общинной жизни оставили в истории Русской церкви заметный след. Мы увидим дальше, что это характерно для Русской церкви: переводческая деятельность, возврат к каноническому церковному строю и т.п., как правило, связан с возрождением общинной жизни и даже берет в ней свое начало. Это не случайно: возврат к общине — это всегда возврат к подлинному церковному сознанию и, значит, обращение к Священному Писанию и Преданию.
Другой пример важности опыта одной общины для общецерковного опыта относится к следующему веку. В Нижнем Новгороде в начале XVII в. была группа так называемых боголюбцев. Они были связаны с небольшим нижегородским храмом Воскресения Христова (опять любопытное совпадение — в константинопольском храме Воскресения Христова Григорий Богослов начал борьбу за православие). Из этого круга выросло большое количество важных для Русской церкви идей и примеров. Оттуда были и Иван Неронов, и протопоп Аввакум, и патриарх Никон, т.е. самые яркие, горящие деятели Русской церкви того времени. Характерный пример деятельности кружка — челобитная нижегородских попов патриарху Иоасафу о падении духовной жизни в народе. Среди причин этого нижегородские попы называли невнятность богослужения. Патриарх ответил, на основе их челобитной разослав инструкцию. Но ни к чему особенно это не привело, кроме того, что сократили некоторые самые одиозные моменты. Патриарх Иоасаф имел дело с реальной церковной жизнью, с ее колоссальной инерцией, а церковную жизнь невозможно исправить сверху, даже самым хорошим указом. Боголюбцы — пример общецерковного движения, которое родилось от одной общины.
Принципиально важно вспомнить и о человеке, весьма близком нам по духу, — прп. Паисии Величковском. Он родился в начале XVIII в. в семье полтавского протопопа, но только юность провел на территории Российской империи, а умер в 90-х годах на территории нынешней Румынии. Его духовная жизнь началась очень традиционно — с поиска духовного отца. В самом начале своего христианского пути, своего ученичества, он удалился из Киева, из духовной академии, видя, что невозможно служить Христу, как ему тогда казалось, в этих условиях. Он считал, что схоластическое киевское образование первой половины XVIII в. не дает возможности для христианской жизни, он увидел, что стремительно расцерковляется. И он пошел искать христианскую жизнь. Он знал, что духовный опыт передается из уст в уста, знал, что необходим духовный руководитель, духовный отец. Но Господь не дал ему духовного отца до конца его жизни, хотя были люди, с которыми он мог советоваться, поскольку в его время было много людей действительно духоносных. Но Господь его вел другим путем и открыл ему следующее. Помните, что говорил Спаситель в Евангелии об отце? О том, что будет у вас во сто крат более и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей. Вот так и получилось с прп. Паисием (об этом есть прекрасная статья иеромонаха Илии (Читтерио) в «Православной общине» № 42). Он искал духовного отца, но понял, что его духовный отец — Господь — обретается в жизни общины со взаимным послушанием при руководстве Евангелия. Он увидел, и очень хорошо это осмыслил, что в христианской жизни необходимо прежде всего послушание Христу, и это послушание Христу, послушание Евангелию может быть при условии, что человек живет в общине единомысленных людей, христиан, во взаимном послушании, и такая жизнь во взаимном послушании в общине под руководством Христа есть подлинно христианская жизнь. Этим прп. Паисий очень отличался от многих святых монахов своего времени, а он провел свою жизнь в основном на Афоне и в румынских (молдавских) монастырях.
Путь евангельской общины, путь открытой любви, как потом будет говорить в конце XIX в. еп. Михаил (Грибановский), для прп. Паисия был связан и с путем деятельного милосердия. Так, в его общине был только один человек, который имел особые права — тот монах, который заведовал больницей. Он мог в любое время дня и ночи зайти в келью прп. Паисия и, например, без отчета взять деньги, которые нужны на лечение больных.
У прп. Паисия была колоссальная, едва ли не самая большая в то время община — около 1500 человек. В какой-то степени это можно даже назвать братством, в котором были очень сильные общинные элементы. Если же говорить о том, как прп. Паисий руководил общиной, то требование у него было только одно. Он требовал от членов общины духовного роста! Это был человек необыкновенно светлого духа, и Господь давал ему очень много даров, поэтому у него было множество служений. Но главное — он сам и его община и его путь. Конечно, прп. Паисия, как и всех подобных людей, обвиняли в новшествах, и он был часто гоним. Господь же настолько благословил его жизнь и его путь, он был настолько плодоносен, что мы пожинаем эти плоды до сих пор, хотя и не всегда об этом знаем. Его труды оказали решающее влияние на русскую церковную жизнь XIX в., и когда мы говорим о русской традиции старчества, когда говорим о русской церковно-переводческой деятельности, мы обязаны вспомнить прежде всего о прп. Паисии.
В Русской церкви его дело расцвело необыкновенно. Его непосредственные ученики создали в России несколько десятков общин на границе XVIII–XIX в. Ведь вообще-то монастырь основать в России было нельзя, можно было лишь основать и зарегистрировать иноческую общину. Монастырь же был государственным учреждением, и в нем было штатное расписание. Община, конечно, могла стать монастырем, но через некоторое время. Или Высочайшим решением можно было учредить монастырь. Тот же Петр I мог, скажем, монастырь (Александро-Невскую лавру) учредить — но это было редчайшим случаем. В нормальном же случае все начиналось с общины.
Духовный опыт учеников прп. Паисия был очень богат. Он связан в большой степени и с духовным научением, потому что духовное невежество народа требовало этого научения. И поэтому лучшие монашеские общины на Руси им занимались, воспринимая это как волю Божию, как свою центральную задачу. Собственно, русское старчество, которое идет от прп. Паисия, было ответом церкви именно на эту человеческую нужду.
Еще необходимо сказать об одном из продолжателей дела прп. Паисия — прп. Серафиме Саровском. Наше старчество расцвело благодаря усилиям учеников прп. Паисия, не был исключением и прп. Серафим. Он родился в последней трети XVIII в., когда прп. Паисий был еще жив, и зрелые ученики Паисия были учителями Серафима, т.е. он — как бы духовный внук прп. Паисия.
Почему необходимо говорить о нем сегодня, когда мы размышляем о традиции общинной жизни в Русской церкви? Потому что прп. Серафим явил собою, имел в себе, может быть, самый зрелый плод деятельности прп. Паисия. Он был не просто человеком глубокого мистического опыта, но и человеком, показавшим пути жизни Русской церкви, вдохновившим очень многое в русской церковной жизни. В его духовном опыте было настоящее «общение святых», он знал, что это такое. В частности, как об этом свидетельствовала монахиня Евдокия, видевшая преображение прп. Серафима во время молитвы, для него также была особенно важна общинная жизнь (хотя, как вы знаете, первую часть своей жизни он провел отдельно, в пустыньке). Она вспоминала, что удостоилась этого видения за молитвы прп. Серафима, Марка, Назария, Пахомия, которые и составляли, как пишет историк Концевич, «единую духовную семью». Духовная семья св. Серафима — он и его духовные братья: Марк, Назарий и Пахомий — очень важное для нас свидетельство. Обратите внимание: может быть, здесь впервые в русской историографии встречается термин «духовная семья».
Также мы знаем труды прп. Серафима по руководству общиной, которая называлась община девичья при мельнице. Он хотел видеть ее как общину, руководимую Христом, именно как общину, а не просто как некую обычную форму христианской жизни монашеского вида. Он предостерегал их, чтобы они не брали обыкновенный устав и не становились обыкновенным монастырем. Но после его смерти это завещание достаточно быстро было разорено, они все-таки взяли совершенно стандартный устав, и то, что он хотел, тот путь, которым хотел идти прп. Серафим, к сожалению, оказался забыт. К слову говоря, и у прп. Амвросия Оптинского была Шамординская община, которой он также не хотел давать монастырский устав, желая, чтобы это была именно община. И тоже после его смерти это не удержалось, и довольно быстро община превратилась в монастырь. То же самое было у св. прав. Иоанна Кронштадтского в Петербурге. Иоанновский монастырь на речке Карповке — это первоначально была община, никакого стандартного монастыря там не было, а сейчас сделали так, что все похожи друг на друга. Почти то же самое произошло и с пустынькой о. Тавриона (Батозского) после его смерти в 1978 г.
Завет общинной жизни хранить очень трудно, потому что всегда есть опасность поставить не Христа, а что-то другое или кого-то другого в центр духовной жизни. Прп. Серафим это понимал и очень старался этого избегать.
Сестры дружили с ним в его общине, очень его любили, и он очень любил свою общину, хотя ему редко приходилось у них бывать, но он помогал им очень много. Например, ему чего-нибудь нанесут, а он им жертвует, т.е. у них было какое-то общение имуществ. Например, зайдут они к о. Серафиму, а потом уходят от него с каким-нибудь мешком продуктов. И конечно, это начальству не нравилось, потому что вместо того, чтобы сдавать на монастырь, он все в мельничную общинку отдавал. Поэтому к нему страшная зависть была и ревность — вплоть до того, что настоятель однажды поставил солдата, чтобы тот проверял выходящих от Серафима женщин: если идут мельничные сестры, то устраивали им обыск. Тогда прп. Серафим стал делать по-другому. Нагрузили мешок камнями, песком, мусором и сестра тащит. Остановили ее, обыскали: «Ну, совсем спятил Серафим». Так и отстали. А он опять начал им передавать. Вообще, им приходилось преодолевать очень большие препятствия. Конечно, все было не просто, иногда отношения между духовным отцом и сестрами были очень накалены, как это всегда и бывает, когда отношения настоящие, глубокие.
Прп. Серафим был часто преследуем не только своим непосредственным церковным начальством, но и простыми собратьями-монахами. Его вообще мало понимали в его время, поскольку он стремился к обновлению церковного общения, имел в этом отношении как бы новое видение, возвращаясь к каким-то давно забытым, но в принципе неотъемлемым от церкви вещам. Например, все слышали о «сухариках прп. Серафима», но не все знают, что за эти сухарики он был гоним. Что он делал? У него в келье была чаша с вином и были кусочки просфоры, он брал ложечкой кусочек просфоры, опускал в чашу с вином и давал это приходившим к нему. До самой его кончины его обвиняли в том, что он совершает «второе причастие», не понимая, что ему это было важно для установления общения. Например, если к нему приходили супруги, которые были разделены какими-то грехами или страстями, то он тоже давал им из одной чаши кусочек просфоры и вина, из ложечки их поил, молился вместе с ними и, таким образом, восстанавливал общение. И вот за несколько месяцев до его смерти совсем молодой новый тамбовский архиерей Арсений (Москвин), будущий киевский митрополит, запретил ему это делать. Он приехал по доносу, что прп. Серафим совершает второе причастие. Ну, приехал и говорит: «Позвать сюда иеромонаха Серафима!» А Серафим жил в скиту, ходил плохо, даже на иконах видно, как он опирается на мотыгу. Передает ему: «Болен, не могу прийти». Архиерей был этим раздражен, послал людей, говорит: «Приведите его сюда», на что прп. Серафим ответил: «Передайте владыке, что не Лазарь пришел ко Христу, а Христос — к Лазарю». Передали владыке, тот взмолился — чуть грех не совершил, и сам пошел к Серафиму. Но Серафим упал к нему в ноги и не вставал, пока тот не ушел. И вот Арсений указал ему давать просфору и вино раздельно или давать только что-то одно (чтобы не было похоже на причастие).
И с тех пор эти «сухарики прп. Серафима» как символ этого общения, этой кинонии, этой агапэ остались и до сих пор существуют в Сарове, хотя сейчас немного забыт их старый смысл (нечто подобное, кстати, делал и святой праведный Иоанн Кронштадтский). Также очень важно, что прп. Серафим в своем старчестве был необыкновенно открыт миру. Если первая часть его жизни была связана больше с личным подвигом, то вторая часть его жизни была связана непосредственно с людьми. Наверное, в это время не было ни одного священника в нашей церкви (о. Серафим был иеромонахом), который бы столько был с людьми. Он принимал в некоторые дни, по свидетельствам современников, до пяти тысяч человек, и люди к нему приходили, конечно, прежде всего с жизненными проблемами.
Среди учеников Паисия и Серафима можно назвать свт. Феофана Затворника. У него в прямом смысле не было общины, потому что он жил в затворе (он говорил: «в запоре»), но у него была как бы заочная духовная семья, так как он переписывался с колоссальным количеством людей. И если мы почитаем его письма (есть восьмитомник замечательных писем), то поймем, что он просто учил, наставлял людей на путь, т.е. был настоящим катехизатором. Когда у него просили совета, как устроить духовную жизнь (многие священники ему писали), он говорил так: «Пускай попы заводят чтение по домам и приглашают всех, но обо мне — ни гу-гу» (т.е. не говорите, что это я подсказал). Т.е. было ясно, что в XIX в. людям в церкви уже остро не хватало вот этого личного общения. Это стало тогда тем более очевидно, что в то время в России появился и очень распространился баптизм, который назывался «штундизм», и баптисты как раз заводили такое же чтение по домам.
Надо сказать, что лучшие русские миссионеры, даже такой консервативный человек как московский митрополит Макарий (Невский), в бытность свою алтайским миссионером был причастен этому опыту. В его епархии, Томской (тогда Алтай относился к ней), было очень много такого внебогослужебного общения. И он как миссионер считал, что без этого нельзя обойтись. И свт. Иннокентий Московский, когда на Аляске проповедывал, после того, как обратил людей, старался, чтобы общение между ними не прекращалось, чтобы они продолжали собираться вместе.
Теперь сделаем небольшое отступление от непосредственно темы общины, чтобы понять, в каких условиях церковной жизни, в каком церковном контексте эта тема в XIX в. в России встала. Тогда будет понятно, почему некоторые люди в церкви связывали общину с судьбой церкви.
Старший современник прп. Серафима свт. Тихон Задонский оценивал современную ему церковную ситуацию как трагическую (и это очень важно, потому что, пожалуй, тогда впервые это было сказано с такой силой). Он даже писал (конечно, в письмах, потому что в своих печатных трудах он этого делать не мог), что «почти нет ныне истинного благочестия, одно лицемерство». Он писал также, что «должно опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не удалилось неприметным образом из того человеческого общества, которое не умеет хранить этот бесценный дар Божий». Свт. Тихон также был преследуем, также был гоним, но так же и собирал со Христом. И надо сказать, что те свойства старчества, о которых мы часто слышим, что старчество — это не просто некая духовная гениальность, но особый дар, связанный именно с целостным видением человеческой жизни и собиранием со Христом, были в полной мере свойственны и свт. Тихону. Церковное предание действует так, что святой человек имеет плоды своей жизни прежде всего в людях. И характерно, что именно эти слова свт. Тихона очень много цитировали святые следующих поколений, например, еп. Игнатий (Брянчанинов) и свящ. Сергий Мечев.
Тут нельзя не сказать о таком известном и влиятельном духовном писателе прошлого века, как свт. Игнатий. Он много писал об упадке монашества в его время и видел в этом признак того, что церковь находится на грани гибели. Он видел, что монашеская община разрушается и даже уже разрушилась, что она перестала играть в церкви ту роль, которую она играла на протяжении веков, что она перестала быть местом выявления существа церковной жизни, о котором мы говорили. Он прекрасно понимал, что без этого выявления, как и без этого собирающего центра христианство придет в упадок, и задавал вопрос: а что дальше? Впоследствии эти его размышления будут очень важны для о. Сергия Мечева в контексте размышлений о пути его общины.
Надо сказать, что у прп. Паисия и прп. Серафима были и косвенные ученики, т.е. несколько человек, которые хоть и не являлись напрямую их учениками, но питались соками их жизни, в частности, через связь с русским старчеством.
Так, мы часто слышим и говорим о мудром и глубоком иерархе русского синодального периода свт. Филарете Московском († 1867) как о человеке великой учености и мирового кругозора, но мы часто забываем о его связи с русским старчеством. В 60-е годы прошлого века, когда он уже был пожилым человеком, он испугал своих сослужителей и даже Царское Село тем, что повелел включать в ектеньи прошение о предотвращении надвигающегося гнева Божьего. Он считал, что церковная жизнь находится в таком состоянии, что нужно ожидать близкого конца. Когда в это же время близкие ему оптинские монахи спросили, надо ли делать новый оклад на икону Калужской Божьей Матери, он сказал, что не нужно, потому что скоро со всех икон оклады будут снимать — не тратьте, мол, зря деньги. В это же время свт. Филарет очень много делал для собирания церкви, и в какой-то степени его влияние, так же как и влияние старчества, было решающим в том, что произошло дальше, в конце XIX–начале XX в. В подведомственных ему Московской епархии и Московской духовной академии он собирал силы, собирал единомышленников. В этой связи необходимо сказать о трех его учениках –– архимандритах — Антонине (Капустине), Феодоре (Бухареве) и Макарии (Глухареве), — которые были чрезвычайно разными людьми, очень непохожими друг на друга, но которые в главном были едины.
Прп. Макарий, бывший практически послушником митр. Филарета (он чрезвычайно благоговел перед словами и делами митрополита), был также и человеком, который непосредственно учился как у прп. Серафима (так сложилась его жизнь), так и у учеников прп. Паисия, скажем, у первого глинского старца Филарета, и у других старцев, учеников прп. Паисия. Например, когда он был в Екатеринославе, он был учеником паисиевских старцев Ливерия и Калинника и их постриженника Иова (Потемкина), еп. Екатеринославского. Именно через них он получил вдохновение на свое служение людям. И когда он пошел свидетельствовать о Христе на Алтай (это было его осознанное желание, его осознанный выбор, поскольку в этом он видел прямую волю Божию), то его успешная церковная деятельность началась с того, что он стал просто нянчить алтайских детей, т.е. делал примерно то же, что потом делала мать Мария (Скобцова). Его влияние было решающим для русской синодальной миссии. Мы можем сказать, что всем лучшим, что мы имеем в русской синодальной миссии, мы обязаны, в известной степени, влиянию именно архим. Макария (Глухарева).
Архим. Феодор (Бухарев) также был учеником свт. Филарета и также испытал влияние прп. Паисия. Он первым, пожалуй, ввел в нашей церкви простое, но удивительное для того времени выражение: «христианство и жизнь». Впоследствии его основная книга будет посвящена именно этому: «Христианство и вопросы жизни». Постановка вопроса была необыкновенна для того времени! И когда эта книга вышла, когда вышли его статьи на эту тему, он подвергся страшному гонению, просто остракизму, и его церковная судьба была трагической, впоследствии он даже снял сан. Он также осознавал как главную и единственную проблему церковной жизни проблему возвращения к Евангелию, причем он говорил это во времена свт. Филарета.
Архим. Антонина (Капустина) мы знаем прежде всего как главного деятеля Русской миссии в Иерусалиме, как своеобразный венец этой миссии (есть книга о нем архим. Киприана (Керна)). О. Антонин обратил внимание на то, что в церковной жизни существует некая реальность, которую он назвал «система». Он думал: что противодействует всему евангельскому в современной ему церковной жизни? Он писал об этом так: сколько раз я пытался доискаться, в чем моя вина, почему мне не удается по-евангельски построить жизнь? «Все время я оказываюсь камнем соблазна, когда я пытаюсь жить по Евангелию. И однажды один из деловых людей проговорился, сказав в поучение мне, что ни он, ни кто другой не виноват тут в положении дел, что действует не личность, та или другая, а система (подчеркнуто архим. Антонином — В.К.) Об этой фатальной системе я слышал, еще состоя при Константинопольском посольстве». И потом он описывает, что это за система. И архим. Киприан (Керн) пишет далее, что убедившись на опыте в бесполезности борьбы с системой, чувствуя свое бессилие перед ней, о. Антонин, не без горького разочарования, решил совершенно изменить свою линию поведения. Он отказался от борьбы с системой и занялся научной деятельностью, т.е. стал как бы одним из тех людей, которых система сломала. Но он об этом прямо написал, и в этом тоже ценность святой жизни архим. Антонина.
Если вспомнить еще и горькое замечание Достоевского: «Церковь в параличе», то станет ясно, что вопрос о возрождении общинной жизни в середине прошлого века не был просто вопросом о той или иной форме церковной жизни. Как здесь не вспомнить еще об одном мирянине, младшем современнике свт. Филарета, Алексее Степановиче Хомякове. Не случайно он поднял тему соборности, т.е. того, что собирание Церкви — это дело всей Церкви. Он искал подлинную основу церковной жизни и, в конце концов, определил ее так: «Истина вверена взаимной любви христиан». Тут до идеи общины (противостоящей в этом, между прочим, той самой системе) — рукой подать, поскольку воплощение этой «взаимной любви христиан», этой агапэ, и есть община. Эти идеи Хомякова очень сильно повлияли и на Николая Александровича Бердяева, и на всю церковную жизнь последующего времени, прежде всего, на о. Алексея Мечева.
Но, видимо, наибольший бриллиант русской церковной жизни второй половины XIX в. — это еп. Таврический Михаил (Грибановский). Именно ему мы обязаны той, может быть, самой плодотворной идеей церковной жизни, которая указала путь выхода церкви из кризиса. Многие святые XIX в. — и еп. Феофан Затворник, и еп. Игнатий (Брянчанинов), и другие — говорили о катастрофическом состоянии нашей церковной жизни, но мало кто из них, кроме, кажется, свт. Филарета, говорил о путях преодоления этого кризиса, о путях выхода из него. Когда свт. Филарета прямо спросили: вот, кончается та эпоха, когда государство поддерживало силой своих законов христианство (это говорилось о России 1860-х годов), так что же делать? Он отвечал: взять себе в руководство то, как действовали апостолы; вспомните, что они побеждали язычество и нагромождение ересей не силой законов языческого мира, а благодатью Христовой, личным примером, силой веры.
Так вот, еп. Михаил (Грибановский), можно сказать, еще более ясно смог ответить на вопрос, что же делать. В 1886 г. на заседании одного из первых питерских братств, братства Пресвятой Богородицы, иером. Михаил произнес доклад «В чем состоит церковность» (см. «Православная община», № 1, 1991) и сказал в нем удивительные слова: чтобы выйти из кризиса, в котором оказалась наша христианская церковная жизнь, надо заново ознакомиться с Евангелием. И еще он сказал о том, что стало главным содержанием обновления церковной жизни на рубеже веков: воцерковление жизни. Это его идея, которая потом будет всячески развиваться и по-разному интерпретироваться. Он стал первым, кто очень ясно осознал этот путь жизни. Он писал, что нет ни одной стороны жизни христианина, ни одной стороны общественной жизни, которая не может быть освящена и преображена в Церкви. Он говорил, что нет ни одной былинки на народной ниве, которая не могла бы быть освящена и преображена в свете Духа Святого.
И вот что интересно: когда он стал так задумываться над задачей воцерковления жизни, он пришел, и не мог не прийти, к необходимости братской и общинной жизни. Он записывает в своем дневнике: «Трудно, почти невозможно с нашей расслабленностью воли спасать свою душу одному. Постоянно падаешь и спотыкаешься. Невозможно одному устоять против течения океана суеты и низких помыслов. Нужна взаимная братская поддержка. Нужно взаимное воспитание… Нужно общество, где бы друг друга не оставляли, а возбуждали: нужно, чтобы благодать Божия ощущалась среди нас и в нас, нужно общество духовных аскетов,.. нужна школа беспрекословного послушания, нужна работа единственно ради Бога и спасения души.»
А вот отрывок из письма еп. Михаила 1893 г., в котором он как бы подводит итог своим духовным поискам. (Надо сказать, что жил он очень мало: родился в 1856 г., а умер в 1898 г. Вообще, о нем невозможно говорить в категориях, к которым мы привыкли, например, о нем невозможно было сказать «владыка», потому что он был прежде всего — христианин, и он был настолько, как бы сказать, любовен во всем своем облике, что просто не идут к нему подобные слова1 .) Итак, он пишет о своих духовных поисках, которые разрешились в иночестве. После пострига он ищет путь своего служения, и вот что это оказался за путь: «Воля и обычная жизнь моя и людская были для меня противны, и я жаждал убежать от них. Вот как назрела мысль о монастырях, о Афоне, я побывал в Соловках, на Валааме, в Задонске, Киеве, Константинополе и Иерусалиме. Везде старался беседовать с подвижниками и окончательно определиться. Не скрою, что в этих беседах мне приходилось иногда переживать возвышеннейшие и сладчайшие минуты. Я чувствовал себя в веянии Бога. Я ощущал небо близким и родным. Никогда до того я не ощущал такой реальности духа, такой живости и возвышенной любви и чистоты молитвы. За этот период я как бы впервые обрел Бога. Но вместе с тем я вернулся назад к людям и в Академию. Это мне единогласно советовали и подвижники, особенно преосв. Феофан (Затворник — В.К.): к этому склонился под конец и я сам. Дело в том, что переживши во время путешествия два пути духовной жизни старцев — путь созерцательный и путь деятельный, путь уединенной молитвы и путь открытой любви, путь Феофана и путь Оптинского старца Амвросия — я почувствовал, что мой путь — последнего рода».
«Путь открытой любви», — это тот путь, который впоследствии назовут путем «монашества в миру».
Еп. Михаил пишет далее: «Я увидел, что я должен на людях подчинить свою веру Богу, что только путем преодоления эгоизма в каждый миг моего общения с людьми я достигну того света любви, который сам собой забрызжет лучами соответствующей деятельности. Короче сказать, я нашел свой путь, определил его, и он оказался среди тех же людей, от которых я было бежал. (…) Для меня стал ясен неотразимо мой долг — все делать по любви к человеку и Богу, к чему бы этот долг ни привел. Внешняя судьба стала безразлична. Значит, незачем стало и уединение».
И дальше еп. Михаил пишет самое главное: что этот «путь открытой любви», это «монашество в миру» можно строить только в братстве, в общине. И этот свой идеал он хочет распространить не только на монашество, но и на «все молодое поколение»: «Всюду, где только можно, насаждать царство любви и гармонического развития личности в Духе при помощи Христа. В этом, в сущности, разрешается все православие, все его догматы, вся этика, все таинства, все обряды, вся жизнь. В разъяснении православия в этом смысле — теоретическая задача наша. В проведении такого православия в жизнь частную, семейную, общественную и государственную — вся наша практическая задача. В братском союзе сочувствующих и отдающихся всецело этой задаче людей — самый верный задаток обновления православно-русской жизни. (…) Вот, мой друг, практические идеалы. Придется ли их осуществлять легальным путем или путем протеста сверху или снизу — все равно, почему-то предчувствуется, что Бог приведет скоро к последнему. Но наше дело не рассуждать о том, что неизвестно, но быть готовым к нему».
Теперь об общине о. Алексея Мечева и его сына о. Сергия2 . Надо сказать, они строили жизнь своей общины — общины храма свт. Николая в Клениках в Москве — по принципу духовных семей, или малых групп, внутри одной большой общины. И этот опыт в такой явно выраженной форме был абсолютно новым для нашей церкви. О. Алексей Мечев очень много размышлял о «монастыре в миру» (сам термин, кажется, принадлежит о. Валентину Амфитеатрову), и много людей в его общине было причастно к этому его деланию.
В связи с этим нужно сказать несколько слов о Николае Александровиче Бердяеве. Он всегда занимал активную церковную позицию, искал свободы, поэтому его многие не понимали и даже обвиняли в том, что он, мол, борется с церковью. И сейчас можно такое услышать, что он был человеком нецерковным и т.п. Но это совершенно не так! Если почитать книгу епископа Михаила (Грибановского) «Над Евангелием» и потом — Бердяева, можно увидеть, что их взгляды удивительно близки. Относительно церковности Бердяева есть важное свидетельство его парижского духовника (архим. Стефана (Светозарова)), но для нас важнее то, что он был очень лично связан с недавно прославленным о. Алексеем Мечевым и его общиной. Сохранились свидетельства, что о. Алексей, который в последние годы жизни Бердяева в России был его духовником, называл его «отец Николай» (было еще несколько человек, которых он называл «отцами», и тогда думали, что о. Алексей так пророчествует об их будущем священстве, но потом оказалось, что это не так, что он в это вкладывал другой смысл). Впоследствии Бердяев много думал и писал о том, что будущее христианства связано именно с общением, с общинностью, или коммюнотарностью, как он любил говорить, и с общинами.
Община оо. Алексея и Сергия Мечевых интересна именно тем, что она как бы естественно родилась из нового для того времени опыта евхаристической и аскетической жизни. О. Алексей Мечев был непосредственно связан также с оптинцами, с о. Анатолием Оптинским и с о. Нектарием. После смерти о. Алексея прп. Нектарий стал духовным руководителем о. Сергия Мечева. Он говорил, что вся сила не в монашестве, а в христианстве.
Чтобы лучше понять, в чем было новшество и почему о. Алексею и его опыту мы уделяем такое внимание, сравним его опыт с опытом общины другого известного пастыря того времени, тоже москвича, о. Николая Смирнова, настоятеля храма Воскресения Христова в Кадашах. О. Николай хотел создать идеальный приход-общину, и он душу свою полагал, чтобы эта цель осуществилась. Что он делал? Очень важно для него было богослужение. Он ввел общее пение, и они научились петь всем храмом. Это было первое такое общее пение в Москве, и пели прекрасно, удивительно пели довольно сложные вещи. Оказалось, что весь храм, тысяча людей, может петь. Среди его усилий по созданию прихода-общины были также общие паломничества. Они всем приходом куда-нибудь ехали (он первый ввел в России общеприходские паломничества, с 1911 г.), к примеру, в ближние паломничества, в Лавру или в Звенигород, они снимали целый поезд и ехали две тысячи человек сразу. А в дальние, например, в Киев или в Саров, ехало полторы тысячи. Начинал он почти с нуля (люди тогда уже очень мало ходили в храмы), собирал людей, постоянно ходил по домам своих прихожан и т.п. О. Николай и о. Алексий Мечев умерли почти одновременно, и их хоронил патриарх Тихон в начале 20-х годов. Когда о. Николай Смирнов умер, врачи сказали, что он умер не из-за какой-то конкретной болезни, а из-за полной истощенности организма, из-за его выработанности. Он нес на себе целый приход, где он действительно был в центре, но несмотря на такие его колоссальные подвижнические усилия после его смерти, когда его не стало, не стало и общины.
У о. Алексея Мечева приходская жизнь была построена по-другому: не один большой приход-община вокруг пастыря, а несколько небольших духовных семей, или групп, внутри одного большого прихода. Несмотря на то, что приход был миссионерски открытым, изнутри он состоял из общин и групп, во главе которых стояли миряне. Наличие этих общин и групп помогло людям сохраниться в самые тяжелые годы и сохранить свою церковность. Принципы жизни этой общины, которые содержатся в письме о. Сергия Мечева из ссылки, — его духовное завещание. «Принятие семьи своей от руки Господней, пребывание с ней в единении, в любви, в служении и, как следствие этого, — венец отношения к ней — желание непрестанного купножития с ней в сем веце и в грядущем — вот основы заповеданного нам пути, исполненного Самим Христом Спасителем».
Теперь снова поговорим о терминологии. Удивительно, но мы возвращаемся здесь к тому, с чего начали. Студентом профессора Смирнова, который написал книгу «Древнерусский духовник», был сын о. Алексея Мечева Сергей Алексеевич Мечев. И название того, что родилось из потребностей жизни, как раз и дал Смирнов: Сергей Мечев, в соответствии с его книгой, предложил назвать эти группы-общины «покаяльными семьями». А потом добавил: «Ну, это маловато, потому что мы ведь вместе и молимся. Давайте, будут «покаяльные-богослужебные семьи». Так и стало. Затем поиски продолжались, потому что все-таки это выражение звучало немного искусственно. В конце концов остановились на «духовной семье», и еще называли «группы». Были у этих духовных семей главы, могли быть ими и сестры. Например, Мария Николаевна Соколова, впоследствии — известный иконописец, в монашестве Иулиания.
Тяжелейший год в гражданской истории России, самый страшный — 1919. Исповедники российские считали, что 1918–1919 гг. — это для Русской церкви Божий суд, т.е. время, когда все лучшее и все худшее в ней обнажилось. Все мертвое просто снесло, после революции 9/10 людей ушли из церкви. Итак, 1919 г., Деникин уже где-то под Тулой, разруха полная, голод, расстрелы, агония… А о. Сергий Мечев вспоминает: «Это время для нас было самое счастливое». В подвале Маросейского храма довольно часто бывали агапы. Агапы были связаны прежде всего с духовным общением и с духовными просфорами, т.е. это была не просто трапеза после Литургии, а именно общение, часто связанное с каким-то духовным чтением.
Вот в этом устроении общин, во внутреннем собирании Церкви, не зависящем ни от каких внешних, часто очень страшных условий, и заключался важнейший, главный ответ на расцерковление самой церкви. Был и соответствующий внешний ответ, официальный, как теперь любят говорить, со стороны священноначалия. Когда на Соборе 1917–1918 гг. стали думать, что делать с приходом, один из авторов Приходского Устава Православной Российской Церкви, святитель Серафим (Чичагов) в предисловии к нему написал: «каждый приход должен стать духовной семьей».
С практической точки зрения он ставил вопрос: c чего начинать возрождение приходской жизни? У него есть книжка, которая так и называется: «О возрождении приходской жизни». Он предложил начать его с выяснения: кто же действительно относится к церкви Христовой? И стали составлять диптихи, списки членов прихода, т.е. тех, кто реально относится к приходу. Считалось, что в Москве было несколько сот приходов (Москва до революции была миллионным городом). Но в самый большой московский приход, приход храма Христа Спасителя, записалось всего 500 человек, а в остальных местах, естественно, меньше. Оказалось, что по-настоящему верующих людей — какие-то очень небольшие проценты от «православного» населения.
При патриархе Тихоне произошла удивительная вещь. Автор одной из лучших статей об этом времени («Собор и революция») историк церкви Антон Владимирович Карташев писал, что церковь устояла только там, где она успела организоваться по-церковному, т.е. где она могла эти свои новые начала жизни реально проявить; а там, где этого не было, там все снесло. Святитель Тихон Московский, человек необыкновенно чуткий к духовным потребностям времени, очень много сделал в Москве. Прот. Сергий Щукин, друг еп. Михаила (Грибановского), вспоминал, что в 1918 г. вся Москва покрылась сетью мирянских общин, кружков, братств.
Многое из этого удалось сохранить и развить новомученикам и исповедникам Российским и труженикам в эмиграции. Например, общежитие матери Марии (Скобцовой) — это не просто форма быта и не просто слово из нашей гимнографии (у св. Феофана Нитрийского, у преп. Феодора Студита говорится о купножитии очень много). Это опять-таки явление самого существа христианской жизни. Известно, что у матери Марии это было связано с особым мистическим видением. Она писала, что для обретения пути подлинного евангельского благочестия необходимо восполнить евхаристическую мистику богообщения мистикой человекообщения. Сейчас, после публикации ее работы «Типы христианской жизни», эти ее мысли хорошо известны, но редко осознают, что это ее видение находится в прямой связи с богословием и самой личностью ее духовного отца — прот. Сергия Булгакова. Труды о. Сергия, его богословие мы, как правило, знаем недостаточно. В основном тут господствует очень поверхностное знание и такие же поверхностные оценки. Все так или иначе знают, что он разрабатывал учение о Софии Премудрости Божией, что подвергался в связи с этим гонениям, но меньше знают, что его богословие, как и вся его жизнь, и его переживание Евхаристии (а он говорил, что богословие надо черпать со дна Евхаристической Чаши, и даже лекции специально устраивал после Евхаристии) вытекают из его обновленного понимания, обновленного истолкования догмата о Св. Троице. И тут он — прямой наследник прп. Сергия и хранитель его завета. Он действительно, «взирая на единство Святой Троицы», которое понимал не статически, а динамически, как жертвенное общение Любви, без которого нет Жизни, стремился к воплощению этого общения в своей жизни и жизни окружающих его христиан. Через это он принес многие плоды собирания Церкви, которые мы продолжаем пожинать до сих пор, а сам остался как бы в тени, и даже имя его, как известно, нередко и сейчас пререкаемо.
Еще в 1930-е годы ученик о. Сергия о. Николай Афанасьев, тогда еще мирянин, написал статью, в которой, осмысливая социальную роль церкви, пришел к тому, что учение о Церкви есть учение об общине, что побеждать зло Церковь может только созидая себя самое как общину, в которой зло мира уже преодолено, т.е. интуитивно он возвращался к заветам прп. Сергия.
Хотя для русской эмиграции, оказавшейся в отрыве от родины, вопрос о преодолении зла и греховного разделения, о вине церкви и о ее роли в этом преодолении всегда был актуален, — с новой, неожиданной силой в русской эмиграции вопрос об общине встал после Второй мировой войны. Внешне фашизм был побежден, но долгожданная победа не оправдала надежд на примирение и, естественно, стали думать: а что дальше? Как преодолеть то зло, которое привело к этой трагедии? Как преодолеть то крайнее порабощение личности, которое явил миру фашизм? Николай Бердяев написал после войны целый ряд статей, в которых ясно говорил, что такое преодоление может быть связано только с преодолением индивидуализма в общении, что христианство должно стать одновременно менее социально обусловленным, но более социально активным. А о. Василий Зеньковский в 1945 г. писал прямо: «Чтобы явить силу христианства, нужна христианская общность… Если бы какая-нибудь группа христиан захотела ужиться вместе, если бы попробовала и добилась этого, то мы бы увидали, что именно в этом лежит путь и христианского обновления и всего мира… Лишь через приятие людей и любовного отношения во мне растворяются те перегородки духовные между людьми, которые не могут быть сняты никакими внешними реформами, а между тем победа над злом, преодоление мировой трагедии в том и заключается, чтобы настало между людьми чувство братства. В осуществлении братства в общежитиях, в этих своеобразных монастырях, объединяющих семейных людей, и лежит та правда, которую возвещает нам христианское чутье перед лицом всеобщего озлобления и ненависти»…
И последнее, о чем необходимо сейчас сказать, — о пути одной общины, которая это призвание осуществила в жизни. Это община архим. Сергия (Савельева). Он написал книгу, которая называется «Далекий путь» — путь его общины, который начался 29 октября 1929 г., в день ареста его самого и части общинников, и продолжается до сих пор, уже после смерти самого о. Сергия и всего первого поколения общинников. Их жизнь — яркий пример того, как община становится основой жизни церкви, из которой все вытекает и в которую все сходится. В общине они действительно нашли Церковь, нашли место победы Христа над злом мира сего и источник мира для мира. Вот как писал об этом сам о. Сергий: «Еще я скажу тебе одну тайну. Свято любя друг друга, мы не замыкались в себе. (…) Родная жизнь тем и замечательна, что человек не один в ней, а вместе с другими проходит свой жизненный путь, и когда мутные волны бьют и угрожают ему потоплением, то родная любовь спасет от поглощения безымянной бездной. Она бессильна поглотить тех, кто связан узами любви, так как в ней присутствует Сам Христос: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот родная жизнь и является исполнением этого завета. Это тоже чудо».
И, может быть, наиболее важно то, что сам о. Сергий, который создал общину и был на протяжении 50 лет ее главой и ее духовником, никогда об этом не думал. Он не только не осознавал себя как центр общины, не думал, что он кого-то воспитал, наоборот, он всегда исповедовал, что община его воспитала, и в ней он черпал силы для своего церковного служения, в том числе приходского (а он в конце жизни был одним из самых известных московских настоятелей, который фактически возродил приходскую жизнь в нескольких московских приходах, хотя он был гоним, и его переводили с прихода на приход, и даже надолго отстраняли от священнослужения). К тому же о. Сергий был человеком, который на редкость трезво видел судьбы Русской церкви и оставил нам ряд пророчеств о ее судьбе после падения советского режима, которые практически все сбываются. Эти свои духовные прозрения он также связывал со своей общиной. Вот как он сам об этом писал: «Родной мой человек, и если ты услышал от меня что-то необычное и дорогое для себя, то помни, что я тебе обо всем этом мог сказать только потому, что меня возрастила таким, каким ты узнал меня, родная святая любовь».
И несмотря на то, что о. Сергий предвидел, что будет еще большее разорение церкви, чем при советской власти, его опыт позволял с верой и надеждой взирать в будущее. И вот что он пишет о пастырстве в общине, что принципиально важно и для нашей сегодняшней темы, и для нашей сегодняшней жизни: «Препояшьтесь покрепче, нужно бодрствовать, ибо волк тогда расхищает стадо, когда пастыри засыпают. Мы сейчас все пастыри, каждый из нас на своем месте пастырь. Если вы находитесь в своей духовной семье, будьте там пастырями. Не дремать, не делать поползновений к тому, чтобы распускать себя. Вы сами несете ответ перед Господом и перед святой Церковью. Еще раз призываю вас, препояшьтесь покрепче!»
Это — последний завет всем нам здесь и сейчас.
– Назовите, какие еще были или есть общины в нашей церкви.
– Теперь, когда мы говорим об общинах, мы часто слишком легко употребляем этот термин, не входя в рассуждения о том, что же это такое. Потому что это может быть и община как некое место общежития, и община как братство. Были несколько выдающихся общин-братств уже в конце XIX в. У Неплюева под Харьковом было Крестовоздвиженское трудовое братство. У св. Иоанна Кронштадтского было трудовое братство в Кронштадте (он построил так называемый Дом трудолюбия). Община была у архим. Спиридона (Кислякова) в Киеве (наверное, кто-то из вас видел его книгу «Записки сибирского миссионера»). Община была (близкая с киевской) у о. Василия Адаменко в Нижнем Новгороде. В Москве на Большой Лубянке, в храме Гребневской иконы Божией Матери, была община о. Александра Эндеки, и т.д.
– Почему общины сейчас редки? С чем связан отход от общинной жизни?
– Происходит «расцерковление церкви», отсюда — и редкость общин. Когда церковные люди входят в глубину церковной жизни, то получается так, что Сам Дух Святой созидает общину. Когда человек стремится к благодати Божией, тогда он не может не стать на этот путь.
– Насколько опыт жизни наших общин похож или не похож на другие общины?
– Внешне, по форме организации, мы, насколько я знаю, все-таки больше похожи на мечевские общины: группы, во главе которых стоят миряне. У них также были и молитвенные встречи, и евангельские, и встречи по святым отцам, читали из предания. Было очень серьезное отношение к богослужению. Какие есть различия в нашем общинном опыте? Наша большая община, или наше братство, очень велико, гораздо больше мечевских общин. Ну, и потом мечевцы очень хорошо знали предыдущий опыт, а мы довольно плохо знаем. Когда о. Георгий Кочетков вводил термин «духовная семья», он не знал, что такой термин существовал до этого, т.е. он сделал это совершенно независимо от того, о чем мы с вами сегодня говорили.
– Какова была материальная сторона жизни общин?
– Было по-разному. В древнерусской жизни были братские складчины, были десятины, т.е. все эти вещи бывали и в общинах, и в братствах. Были общины, в которых люди просто жили вместе, вели общее хозяйство. Я сейчас не говорю о современном католическом опыте, который очень сильно развит в этом направлении.
– Каков был общинный опыт о. Александра Меня? В чем отличие общины от «не общины»?
– Он называл свои группы «общения». Говорили: «Пойдем на общение». Он назначал старшего в такой группе, и все было очень по-разному в зависимости от старшего. Он, конечно, сам старался посещать эти группы. Но он был убит тогда, когда еще не удалось развернуться как следует, открыто. Поэтому неизвестно, как бы это пошло. В 1990 г., год его смерти, у нас было не больше 12 общин, или, вернее, групп, по большей части еще не ставших общинами. У о. Александра в то время тоже было около десятка групп.
– Леонид Иванович Василенко нам рассказывал, что он был членом одной такой группы. У них тоже были евангельские и молитвенные встречи, но все-таки он сказал, что это были не общины.
– Да, Леонид Иванович считает, и он где-то прямо писал об этом, что «общины не получилось». Он связывает это с тем, что так и не удалось преодолеть индивидуализм, и очень об этом скорбит. Поэтому это были, действительно, только «общения». Надо сказать, что у о. Александра эти группы выполняли еще и функцию оглашения, или церковного образования, т.е. он мог послать в такой «куст», в такое общение какого-то человека, и там он научался духовной жизни. У нас же сразу было отдельно оглашение, отдельно Высшая школа, и отдельно — группы и общины. У о. Александра же было все вместе, хотя потом он начал отделять школу, пытался сделать ее самостоятельной, на основе своих лекций хотел открыть университет. И сейчас некоторые из его учеников движутся именно к общине.
Это связано, конечно, и с различием самого церковного пути о. Александра Меня и о. Георгия Кочеткова. Дело в том, что о. Георгий вырос в неверующей семье и искал днем с огнем христиан, а о. Александр с младенчества рос в христианской среде, очень церковной, причем в лучшей церковной среде, какую тогда можно было иметь. Архим. Серафим (Батюков) и монахиня Мария, которые его воспитывали духовно, — самые светлые люди своего времени, это круг, близкий еп. Афанасию (Сахарову). И поэтому он, начавший свою церковную деятельность в 50-х годах, мог сразу выбирать из тех форм, которые знал. У о. Георгия же все было гораздо сложнее, потому что он должен был сам думать, как это лучше сделать. Можно сказать, что сама жизнь и дух рождали нужные формы.
– Все-таки опыт о. Александра Меня мы можем охарактеризовать как общинный?
– Можем. Если вы тихонечко спросите у о. Александра Борисова, он вам, думаю, скажет, что для него это — самое главное в церковной жизни, т.е. то, что надо сохранить.
– Было ли время, когда духовник мог не быть священником?
– В греческой традиции это было всегда, и была безуспешная борьба против того, чтобы миряне были духовниками. Скажем, не все монахи-духовники — священники. И везде в церкви, и в русской православной традиции всегда были монахи, которые старчествовали, занимались духовничеством, не будучи священниками, в том числе и женщины. Не только преподобные были духовниками, но и юродивые тоже. Когда человек ищет духовника, он смотрит на духовный опыт, и это бывает по-разному. Духовничество как ведение человека по духовному пути отличается от просто принятия исповеди и т.д. Перечитайте доклад митр. Сурожского Антония «Духовность и духовничество», и вы увидите все эти различения.
– Известно ли что-то о судьбе общины о. Сергия Мечева после его смерти?
– Очень хорошо известно. В древней Руси была такая традиция: если в покаяльной семье умирал духовник, он передавал свою семью какому-то конкретному человеку. И у о. Сергия были преемники — отцы Константин Всехсвятский, Борис (Холчев), Иеракс (Бочаров), Петр Шипков, Борис Васильев — довольно много разных людей. Но главное, он писал в письмах из ссылки: «Духовников не ищите… Поручаю вас Господу Иисусу Христу и друг другу». Здесь как раз они и проверялись как община. И они, действительно, собирались, сохраняя церковность.
– Об этом где-нибудь написано?
– Да, об этом очень много написано. Вообще, этот круг наиболее известен, т.е. нам наиболее известно как раз то, что было с мечевцами после смерти о. Сергия.
– У меня вопрос относительно опыта общин о. Сергия Мечева, поскольку их опыт действительно больше похож на наш.
– Извините, я бы сказал: о. Алексея и о. Сергия. О. Алексей вообще ближе к нам немного, чем о. Сергий.
– А почему? В чем разница между ними?
– О. Алексей был очень зрелым человеком, а о. Сергий тогда только начинал свой духовный путь. Он был очень талантливым, судя по описаниям, и о. Алексей его высоко ставил, и он хранил этот дух и эту ревность. Но у о. Алексея это все прошло через жизнь, через очень большие страдания. О. Сергий это получил как дар, и очень за это благодарил. А для о. Алексея это был очень большой труд. Он был очень милосердным человеком.
– Была ли тогда разница в жизни общин о. Алексея и о. Сергия?
– Нет. Это были одни и те же общины. Просто у них был немножко разный подход. Например, если о. Сергий был категорически против монашества («Зачем ты в монастырь просишься, когда у тебя тут есть своя община?»), то о. Алексей всегда немножко мягче выражался, от каких-то крайностей старался о. Сергия уберегать. Различие проистекало, главным образом, из того, что о. Алексей до многих вещей дошел сам и поэтому знал, что главное, а что второстепенное, а о. Сергий всю деятельность о. Алексея принимал как целое, и поэтому не всегда мог хорошо знать, что главное в его служении. Например, если о. Алексей очень почитал каких-то святых, скажем, преп. Феодосия Тотемского или преп. Феодора Студита, и это было естественно, то у о. Сергия это — уже почти такой нарочитый культ. Или, например, если о. Алексей наизусть знал Священное писание Нового Завета по-славянски (он читал его всю жизнь), и это было естественно, то когда о. Сергий пишет письма и при этом использует церковнославянские цитаты из Нового завета, это уже кажется стилизацией. У него происходила некоторая абсолютизация найденных форм, абсолютизация тех форм, которые достались от отца. О. Алексей был свободен в традиции, а о. Сергий, кажется, не очень. Это — очень большая разница. Мы плохо, конечно, знаем о. Сергия 30–40-х годов, когда он был уже в возрасте, а вот вначале — это было очень сильно заметно.
– Что известно об отношении о. Алексея к богослужению?
– Для него было важно, чтобы главные части богослужения были на своих местах, чтобы была проповедь, чтобы было чтение Писания, чтобы было внятное чтение и пение, чтобы выполнялся устав, — не в «уставщическом» смысле слова, тут о. Алексей был как раз очень свободен, но чтобы сохранялся, как сейчас принято говорить, lex orandi, закон молитвы, т.е. чтобы был доступен и внятен дух и смысл православного богослужения. Важна была богослужебная память святых, важно было, чтобы народ участвовал в богослужении, чтобы часто причащались (это он понимал не формально, конечно, но воспринял у св. Иоанна Кронштадтского, что это значит для духовной жизни). Что больше всего раздражало его современников? Евхаристический склад его общины и его проповеди о любви. Он начинал говорить сначала о любви, а потом об аскетических добродетелях, и это некоторым было очень тяжело слушать, особенно московскому духовенству. Ну и что это такое — все в храме причащаются? Это не соответствовало московскому благочестию того времени.
– Какие были у общин о. Алексея и о. Сергия формы внебогослужебной жизни, внебогослужебного общения?
– Праздники, паломничества, чтение святых отцов, какое-то научение и учение, общее проведение отпуска. У мечевцев был домик в Верее, общинный дом. Летом с детьми (особенно молодые семьи) выезжали вместе и там жили, что было даже после войны. Еще у них были кружки по изучению предания. Читали вместе святых отцов, приглашали кого-то для лекций. Уже с начала 20-х годов не было возможности открытого духовного образования, поэтому община должна была взять это на себя (как вот наше братство в 1988 г. взяло на себя высшее духовное образование, потому что не было никакой другой возможности этим заниматься, и надо было самим это делать). И в Москве, и в Питере был так называемый Богословский институт. Мечевы были с этим связаны, и о. Алексей, и о. Сергий. В храме очень много читалось лекций. Сергий Николаевич Дурылин, тогда священник, а потом известный искусствовед, там тоже читал лекции. О. Сергий устраивал лекции по темам: о сотворении мира, о грехе и т.п, т.е. нечто очень похожее на оглашение.
– А как проводились агапы в их общинах? Существовала ли какая-то регулярность, какой был ритм?
– У меня такое впечатление, что по тому значению, которое о. Сергий придавал агапам, они были чаще, чем у нас.
– Теперешняя жизнь в большинстве храмов Москвы строится или уже построена на традициях приходской, а не общинной жизни. Но у них ведь тоже, наверное, происходит какой-то процесс обучения, научения, разъяснения Евангелия. Сопутствует ли этому тенденция превращения прихода в общину, хотя бы в какой-то степени?
– Везде, где есть стремление к церковной жизни, к Божеской жизни, сразу же возникают общинные элементы. Причем, это не зависит от «внешней» ориентации. Например, мы знакомы с одной общиной, как бы сказать, правого, даже яро монархического толка. Но жизнь их привела к элементам общинности, и на этом уровне мы вполне можем разговаривать и общаться, хотя по некоторым вопросам мы занимаем противоположные позиции.
– А есть ли еще общины в Москве?
– Есть. Например, думаю, в храме Николы в Кузнецах
– Евхаристия и трапеза после нее — это один из важных моментов для общины?
– Евхаристическое служение — это одно из важнейших проявлений жизни общины, но не единственное.
– А какое центральное?
– Если говорить с сакраментальной точки зрения, тогда это Крещение и Евхаристия, т.е. как минимум два таинства. А вообще — вспомните о цели христианской жизни. Вспомните и то, что мы сейчас говорили о прп. Сергии.
– Я хочу спросить о постоянстве состава мечевских общин: когда община образовывалась, предполагалось ли, что это — навсегда? И насколько состав общины менялся в течение ее жизни?
– Предполагалось, что это — навсегда, но состав, конечно, менялся, — примерно как и у нас. Кто-то новый мог входить, но это не был проходной двор.
– Насколько эти общины были открыты с точки зрения миссионерской деятельности?
– До начала открытых гонений открытость, безусловно, была. Вы знаете, что именно после революции многие, особенно молодежь, обратились к церкви, и поэтому такая открытость в приходе о. Алексея была очень важна. Но для внутренней духовной жизни приход был больше общинным, он был как бы и миссионерским и общинным одновременно. У о. Николая Смирнова было так же. А что касается времени гонений, то тут все решалось индивидуально. Всегда была опасность провокаций, предательств, тем не менее, хоть и с большими сложностями, это преодолевалось, как, например, в савельевской общине. Входили новые люди, человека принимали в общину, но после некоторого опыта совместной жизни. Проходного двора не было.
– Если обращаться к опыту общины о. Сергия (Савельева), то в нем есть такая черта, про которую сегодня еще не было речи, а именно: совместное проживание, которое общине о. Сергия (Савельева) удалось реализовать. Был ли такой опыт у каких-либо других немонашеских общин? И вторая часть вопроса: не потому ли в общине о. Сергия Савельева это было возможно, что она все-таки была монашеской, вернее, иноческой общиной, где в основном были люди не семейные? В нашем же братстве, например, значительная часть людей, если не большинство, — люди семейные, и часто семьи не полностью церковные. Был ли опыт или какие-то попытки совместного проживания в немонашеских общинах семейных людей?
– О. Сергий Мечев говорил, что монашество настолько является таковым, насколько оно является христианством, потому что вся суть не в монашестве, а в христианстве. И поэтому для прп. Паисия, например, никакого различия между монахом и немонахом в этом смысле не было, т.е. человек или живет по Евангелию — или нет. И это — значительно более важная вещь. У о. Сергия Савельева, конечно, это было все-таки иночество, а не монашество в привычном смысле слова. Отношения семьи по плоти, но без супружеских отношений, были у о. Сергия и матушки Серафимы, которые, вы знаете, приняли решение принять постриг, но при этом остались в одной общине, да еще и вместе со своей дочкой Катей. И теплые, какие-то личные отношения у них, конечно, сохранялись. Были и другие случаи: есть в общине сестра Людмила, у нее была семья, муж только недавно умер. Так что никакого пренебрежения браком в общине о. Сергия не было.
Есть и опыт, который я сам видел в Милане у католиков. У них есть форма мирянского движения — Communita famiglia, т.е. семья-община. Такие семьи, которые хотят жить общиной, скупают несколько квартир в одном доме, при этом семьи могут быть разной церковности. У них, например, есть возможность совместной трапезы, в обед, скажем, все собираются, вместе готовят. А может этого и не быть, т.е. форма рождается из жизни.
– Был ли опыт в этом веке, когда община жила отдельно от прихода, т.е. так, чтобы в ней, в ее доме, а не в приходском храме совершались все таинства?
– Да, много раз такое было. Во-первых, вся катакомбная церковь в XX в. на этом была построена, а там были люди достойной духовной жизни. Например, мечевская община в какой-то момент после закрытия храма была в катакомбной церкви. У о. Серафима (Батюкова), духовника о. Александра Меня, тоже так было. О том, что поближе к нашим временам, я сейчас не могу говорить, но и в наше время такие вещи были, уже при Брежневе. Были примеры и обратные: в пустыньке у о. Тавриона была такая «летучая» община, распространявшаяся как бы на всю церковь. Люди приезжали, уезжали, состав постоянно менялся, но эта жизнь, этот дух общины поддерживался постоянно. Практически о. Таврион занимался таинствоводством за всю церковь, т.е. вводил людей в таинственную жизнь, научал участвовать в таинствах. И у него была непрерывная Светлая седмица — для всей церкви: ежедневное причастие, ежедневное научение. Таким образом, формы были самые разные.
– Для возникновения новых общин должно быть пастырское попечение об этом, а вот его как раз и нет. Как же общины могут возникать сейчас?
– Мы говорили, что, если у человека есть стремление к духовной жизни, он всегда будет идти в сторону общины. А такие живые люди есть всегда во все эпохи.
Сверху же общину создать невозможно, нужно именно стремление самих людей. Вы помните, с чего мы начали: только на свободной встрече людей была возможной жизнь покаяльной семьи, в отличие от прихода, границы которого были как раз разграничены сверху.
– Конечно, это главное, но если и возникает это стремление, то церковная власть, прижимая его, может все это разрушить. Она в состоянии это сделать.
– Не может она этого сделать. Любовь невозможно разрушить, а значит — и общину.
– О. Георгий Кочетков воцерковлялся в семье Николая Евграфовича и Зои Вениамновны Пестовых. Он, видимо, от них уже знал что-то об общинной жизни? Он знал, что они были в мечевской общине?
– Нет, не знал. Ему прежде всего был очень важен пример их духа и жизни, их открытости. Он, конечно, знал, что они были мечевцы, но он тогда не знал, что у Мечевых были группы и общины, Пестовы ему этого не говорили. Он же воцерковлялся во второй половине 60-х годов, и вы представьте себе, что такое в то время для государства были эти общины? Это же как подпольная организация! Так что говорить об этом было опасно. Пестовы и без того очень рисковали, открыто принимая у себя людей, открыто давая им книги и т.д. К ним ходило много людей — и о. Александр Мень к ним ходил, и о. Виктор (Мамонтов), тогда еще мирянин. Знаете, как они вынуждены были принимать людей? Одного — на кухню, а другого в это время выводят из квартиры, чтобы они не встречались (т.е. чтобы людей не подставлять, в случае чего). В то время они были уже довольно старыми людьми, их молодость пришлась на 1920-е годы.
– Тогда можно сказать, что это — чудо, что о. Георгию повезло, что он к ним попал?
– Да, это была, наверное, одна из всего двух или трех традиционно церковных московских семей, которые открыто принимали людей и давали им читать христианские книги.
– Я имею в виду, что, может быть, именно через знакомство с Пестовыми, с духом и примером их жизни, ему пришло это чувство, как бы Господь дал, что надо организовать общину?
– Я бы сказал не «организовать», а возродить. Это была потребность, которая родилась из самой жизни. И агапы родились из жизни: люди причастились, и им не хочется уходить из храма, а хочется вместе продолжить это общение. Но, конечно, мечевский дух тоже сделал свое дело, так всегда «работает» в Церкви любая подлинная ее традиция. А община в церкви — одна из неотъемлемых духовных традиций, ибо она всегда зиждется на любви и свободе, на духе общения и братства, на личной за всех ответственности, на самой личностности и церковности и на взаимоподчинении всех. Да будет так и со всеми нами!