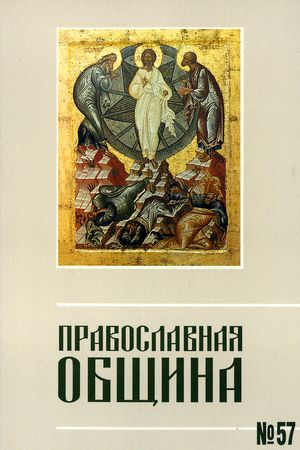Три столицы Европы. Впечатления от поездки в Женеву 15.11.99–14.12.99
В прошлом году, как и два года назад, студенты Свято-Филаретовской школы были приглашены участвовать в очередной сессии Международного христианского образовательного центра, организованной профессором социологии Женевского университета католиком Патриком де Лобье. Цель этих сессий — помочь молодым российским православным людям понять, что такое социальная доктрина современной Католической церкви, для того чтобы Русская церковь могла более активно участвовать в жизни общества. В течение месяца с середины ноября до середины декабря группа из восьми человек, в которую, помимо двух студентов нашего института, входили студенты и преподаватели МГУ, Библейско-Богословского и Свято-Тихоновского институтов и Российского православного университета, жила в Женеве и слушала лекции православных, католических и протестантских преподавателей по разным вопросам, касающимся социальной доктрины церкви. Кроме того, программа предполагала знакомство с реальной жизнью западной церкви и общества — той, которую не всегда увидишь в туристических поездках и на официальных мероприятиях. Поэтому редакцией журнала было решено, что нашему читателю будет небезынтересен рассказ одного из участников этой сессии.
Впечатления от поездки в Женеву 15.11.99–14.12.99
Каждое поколение русских людей вновь и по-своему встречается и знакомится с Западом и его духовными поисками и устремлениями. Встретиться же с ним «живьем» тем более интересно, что у каждого русского человека есть, как правило, и «свой» Запад — плод книжных впечатлений и неизбежных размышлений на тему «Восток — Запад». Как ни утверждай достоинства восточной традиции, а «страна святых чудес», как писал о Европе любивший ее славянофил А.С. Хомяков, по-прежнему интересует и привлекает. Тем более это актуально для человека верующего, православного: разделение церквей, по-прежнему воспринимающееся в контексте «Запад-Восток», как к нему ни относись, всегда мучает, как мучает судьба друга, с которым поссорился, или супруга, с которым развелся. Ведь не могла же исчезнуть любовь, которая от Бога, и где-то там, за завалами взаимных отречений, предательств и обид она все-таки живет… Но разделение церквей — не только трагедия, но и загадка, и задача: в чем его смысл, какой урок мы можем и должны из него извлечь и что мы должны с этим сделать? Поэтому возможность поездки в Европу именно для знакомства с жизнью и мыслью ее церкви, открывшаяся нам со студентом VII курса нашей Школы Владимиром Якунцевым в прошлом году, не могла не обрадовать и не вдохновить на новое познание, «лицом к лицу», того, что давно знал «по письмам и фотографиям».
Патрик де Лобье и «Цивилизация любви»
Когда на вопрос одного кальвиниста о моих женевских впечатлениях я ответил, что это встреча и общение с живыми католиками, он не без иронии заметил: «Если Вы имеете в виду Патрика де Лобье, то учтите: я двух таких католиков не знаю». И действительно, это человек особенный, человек мистической и эсхатологической настроенности, вдохновленный идеей «Цивилизации любви».
Идея эта, впервые сформулированная папой Павлом VI, но находящаяся в русле всей католической традиции, представляет собой одну из всегда актуальных попыток ответить на вопрос, как нам понимать то загадочное «тысячелетнее царство» Христа на земле, о котором говорит Апокалипсис. В основе ответа, предлагаемого сегодня Католической церковью, лежит представление о том, что Церковь как мистическое Тело Христово в своей истории должна мистически повторить путь Самого Христа. Как у Христа, так и у Церкви, которая, согласно мысли прп. Максима Исповедника, есть продолжение Его Воплощения, было безвестное рождение, гонения, скрытно протекшие годы, выход на открытое общественное служение, время пустыни и т.п. Все это приближает время Страстей, время последнего испытания для Церкви, за которым придет Конец. Но в жизни Христа перед Его последним отвержением начальниками и возбужденным ими народом, отречением учеников и Страстями был один краткий, но крайне важный эпизод: Вход Господень в Иерусалим, триумфальная встреча Его народом как Царя, как Сына Давидова… Вот нечто подобное, согласно этому мистическому видению, должно произойти и в истории Церкви: перед временем последних испытаний должно прийти это краткое время триумфа, «Осанна в истории», время всеобщего признания Христа Царем и обращения к Его Церкви. После этого триумфа наступит такое же глобальное отпадение, последние гонения и испытания, «страсти» Христовой Церкви, и только затем — конец истории, мистически соответствующие Кресту и Воскресению.
Конечно, эта идея раскрывается на Западе очень по-католически, т.е. с акцентом прежде всего на внешнем, на внешних признаках церковности, к тому же в опоре на такие вещи, как папство и католическая мистика, на очень подчеркнутое и даже жесткое отождествление Церкви и Царства Божьего, невозможное для Православия, и т.п., но все-таки эта идея не может не впечатлять не только глобальностью своего евангельского подхода и мистического видения, но и конкретностью эсхатологических ожиданий, с самых ранних времен очень важной для христианства и христиан, сообщающей особое вдохновение христианской жизни. Подобное эсхатологическое видение конца истории, согласно этой идее, может стать основой и одним из истоков социальной мысли и действия всей современной церкви.
В связи с этим мы с Владимиром вспомнили, что и у нас в Православии есть схожие эсхатологические идеи, в которых акцент, конечно, перенесен на более внутренние вещи. Западным чаяниям «цивилизации любви» как мистического повторения торжественного Входа Иисуса в Иерусалим как Царя на Востоке соответствуют чаяния исполнения слов Евангелия о «знамении Сына Человеческого», которое явится «на небе» прежде конца, что понимается как «явление Самого Сына Человеческого на некоем духовном небосклоне», т.е. «близкую к образу Креста Его Славу, т.е. какое-то, вероятно, кратковременное, явление силы крестной и воскресной Христовой Любви и благодати в сердцах людей перед самым концом этого мира» (Свящ. Георгий Кочетков. Идите, научите все народы. Катехизис для катехизаторов. М., 1999. С. 581–582). То есть это кратковременное прославление Христа в человеческих сердцах через явление в них Его Любви и может пониматься как воцарение в мире Христа перед последними испытаниями и отступничеством.
Нельзя было, конечно, не вспомнить здесь и близкие к этому видению удивительные по глубине и силе веры вдохновенные пророчества о. Сергия (Савельева), недавно опубликованные на страницах нашего журнала. Видя крайнее внутреннее (а не только внешнее) оскудение окружающей его церковной жизни, он, тем не менее, писал:
"Если бы не Бог, то уныние было бы уделом человека, и это уныние стало бы признаком наступления вечной смерти души. Но если для человека что-то невозможно, то для Бога все возможно. И верится мне, что в душах людей, и не только верующих, но и неверующих (sic!), таинственно ткется настоящая основа для возрождения любви и веры в Бога.
В наше время происходит невидимый для человеческого глаза отбор клеток настоящей духовной жизни. Эти клетки во тьме ищут друг друга, соединяются и оплодотворяются благодатью Святого Духа. Это происходит невидимо для человеческого глаза, и только в ночной тиши безмолвствующий и внимающий своей душе слышит легкие, благодатные дуновения, которые свидетельствуют, что хотя человек и стынет в греховной мгле, но Господь видит все, и прежде всего, слышит воздыхания людей, взыскующих Его сердцем…»
Вспомнили мы и то, что сам о. Сергий неоднократно указывал, что такому удивительному пророческому видению научила его «родная святая любовь», т.е. любовь Христова, связывающая членов его общины.
В результате всех этих размышлений я решил добавить к своей итоговой работе (каждый из участников должен был представить такую работу к концу сессии) «Общины и общество в современной России», посвященной общинам как основе именно социального действия церкви, еще одну главу — об общинах как эсхатологической реальности в контексте идеи «цивилизации любви»Эта тема в современном православном богословии блестяще разрабатывалась митр. Иоанном (Зизиуласом)..
Таким образом, мы можем сказать, что наступление того, что на Западе называют «цивилизацией любви», должно совмещать в себе две реальности. Во-первых, ту, что соответствует торжеству Входа Господня в Иерусалим, т.е. кратковременному воцарению Христа в сердцах людей через явление в них любви, соответствующей «двум главным заповедям в Законе» — о любви к Богу и к ближнему; не случайно же это явление, будучи по сути своей ветхозаветным (ведь и Христа во время Его входа признали царем, скорее, в ветхозаветном смысле), заканчивается отступничеством (разочарованием в возможности ожидаемого Его земного царства). Во-вторых же — ту, что соответствует в сердцах избранных учеников явлению Его Любви как новой, т.е. новозаветной заповеди, данной именно на Тайной вечере: Да любите друг друга, как Я возлюбил ва
с. Явление такой Любви поможет этому избранному остатку устоять во время испытаний, но самой этой любви человек научается в христианской общине. Такое явление церкви как избранного остатка также вполне соответствует пророчествам Владимира Соловьева в «Трех разговорах».
Вообще же мы, может быть впервые, опытно осознали, что именно наши эсхатологические чаяния могут быть почвой для экуменической деятельности, вдохновением для совместной работы и сближения разделенных церквей. Конечно, именно идея «цивилизации любви» движет Патриком де Лобье в его деятельности в России. Но она связана еще и с тем, что, как известно, множество современных пророчеств Католической церкви говорят, что именно в России, в ее реальной посвященности Христу лежит ключ к дальнейшим судьбам мира и человечества. Патрик же истолковывает эти пророчества еще и в том смысле, что духовное возрождение России мистически соответствует воскрешению четверодневного Лазаря перед Входом в Иерусалим. И здесь можно засвидетельствовать, что при всей разнице наших взглядов в лице Патрика мы имели счастье общения с настоящим христианином. Умом, как известно, Россию не понять, и в этом приходится убедиться всякому, кто хочет в России работать. Патрик же работает в России 10 лет, все эти годы — с огромным трудом и искушениями: все знают, как легко на наших просторах пропадают самые благородные усилия и, особенно, деньги… Но он не унывает и продолжает идти вперед, рождая и осуществляя все новые и новые проекты, несмотря ни на что. А это и есть признак истинного служения: когда не столько видимый плод (которого человек при жизни может и не увидеть), сколько Сам Господь и Его благодать является опорой и наградой служащему…
Одна из последних идей Патрика — организовать в связи с 2000-летием христианства паломничество в Новый Иерусалим, в котором приняла бы участие молодежь из православных школ и приходов самых разных церковных направлений. По его мнению, такое паломничество могло бы стать шагом к примирению и взаимопониманию столь разделенных сейчас между собой православных. Он уже говорил об этом с кем-то из патриархии и, кажется, идея понравилась (посмотрим, впрочем, будет ли она воплощена в жизнь).
Вообще же, встреча с католиками, действительно, стала для меня событием. Раньше я по наивности думал, что какие-то одиозные вещи, например, приверженность Аристотелю и Фоме Аквинскому, или несерьезная, на наш православный взгляд, мариология — давно преодолены, по крайней мере, у серьезных людей, но не тут-то было, и это для меня было некоторым шоком. Я уже не говорю о папе Римском: подчас можно было подумать, что для моих собеседников всего православного богословия на эту тему просто не существует, и это было еще более неожиданно. Вообще, я почувствовал: папа на Западе действительно часто переживается как нечто таинственное (как бы к нему ни относились), что уже почти выходит за границы моего понимания (как, впрочем, и многотысячные мессы на городских площадях). Чрез все это я буквально кожей почувствовал тот характерный для католицизма внутренний раскол, который хорошо знал еще по книгам и фотографиям: с одной стороны — интеллектуальная и иерархическая жесткость, с другой же — компенсирующая ее несколько психологизированная «мистическая» экзальтация. Очень часто я убеждался, как трудно понять друг друга даже при самой большой доброжелательности сторон. Так, с одним французским священником, который любит и знает Россию и Православие настолько, что у него есть с виду совершенно православная часовня, где в шкафу висит несколько комплектов православных облачений (из чего можно сделать вывод, что это не только часовня), мы долго спорили о расхождениях в догматике. Выяснилось, что он свято верит в то, что мы не принимаем мариологические догматы только потому, что они были приняты единолично папой, из-за чего мы «обиделись», — и разубедить его оказалось невозможно!
Что же касается самих мариологических «догматов», то они уже превращаются, скорее, в керигму. Складывается даже впечатление, что «весть» о Вознесении Марии порой едва ли не подменяет собой весть о Воскресении Христа. Но надо сказать, что Юнг, выступавший за принятие этого догмата с чисто психологической точки зрения, кажется, оказался прав: для Католической церкви их принятие действительно стало новым вдохновением. Оказалось, это «работает», будучи психологически очень действенным (но духовно, по-моему, все-таки разрушает).
Удивляет меня и резко отрицательное отношение, например, к кальвинизму, т.е. как бы непонимание того, какие недостатки католицизма привели к Кальвину.
При всей моей изначальной открытости к западной традиции и желании как можно лучше и глубже ее понять, иногда от всего этого я буквально задыхался. Тогда я возвращался в общежитие и ночью читал «Истину и Откровение» Бердяева. Производит впечатление открытой форточки.
Лекции, которые нам читали, были разного достоинства. В Москве на большинство из них я, наверное, не пошел бы — скорее, это было важно именно в контексте общего знакомства с Западом. Запомнились известный славист Жорж Нива, который рассказывал о проблемах единой Европы, парижский профессор Бернар Маршадье, говоривший, в основном, о русско-французских связях первой половины века: Бердяев-Маритен и т.п. (Кстати, что очень для них характерно, Бердяева он, в общем, не понимает и не принимает, не считая серьезным христианским мыслителем и церковным человеком, но так или иначе все время цитирует: «А вот это он очень верно подметил» и т.п.). Маршадье сетовал на духовную ситуацию в Европе: молодежь все больше увлекается традициями созерцательных орденов, а иезуиты, действующие через культуру, находятся в некотором упадке. «Впрочем, — осекся он, — может быть, вас это, наоборот, радует?»
Запомнился профессор Фрибургского университета Жан Гальперин, читающий там курс еврейской мысли XX века. Иудей, сын беженцев из России, прекрасно говорит по-русски и знает русскую культуру. (Рассказал в связи с этим анекдот из эмигрантской жизни своего отца: где-то он неожиданно слышит русскую речь и обращается к говорящему: «Вы тоже — русский?» — и получает ответ: «Да, я — русский, но не тоже!») Очень открыт к христианству, особенно, по понятным причинам, любит Соловьева. Читал нам лекцию по этике, о значении ответственности в обществе, причем это было больше похоже на семинар: ему, скорее, было интересно и важно узнать, что мы, молодые верующие люди в России, об этом думаем. Поняв это, мы подарили ему «Православную общину» со статьей о. Георгия Кочеткова «Всемирная отзывчивость или изоляционизм», он прочел в тот же день и остался, по его словам, очень доволен. Мы пытались взять у него интервью, но чтобы раскрутить иудея на откровенный разговор о христианстве, нужны, видимо, другие, более опытные люди. Кажется, немного лучше получилось интервью с Жоржем Нива, который тоже отнесся к нам очень тепло и просил называть Георгием Ивановичем и т.п. Интересно его мнение о России сегодня: «Нет трезвости. У всех — истерика».
Очень милый и интересный человек — Михаил Ельчанинов (очень молодой), он читал у нас лекцию о философии и этике, и потом мы еще вместе молились в Париже в храме РСХД.
Читал у нас лекцию проф. Франс Альтинг фон Гейзау, который имеет какое-то отношение к финансированию «Русской мысли». Он спрашивал, что мы думаем об этом издании, стоит ли продолжать давать им деньги. Мы говорили, что газета, конечно, необходимая, но хотелось бы, чтобы ее церковная позиция была более конструктивной, — не в смысле того, о чем говорить, а как это говорить, что в России и без того не много здоровых церковных сил, и их надо собирать, а «Русская мысль» иногда забывает, что бороться надо со злом в церкви, а не с плотью и кровью, и поэтому часто не собирает, а наоборот, скорее расточает…
Конечно, большое впечатление произвела сама Женева. Мы видели в местном музее макет города до 1815 г., — и это страшновато, что-то вроде средневекового Нью-Йорка: закрытая крепость, узкие улицы и серые дома, растущие вверх. Нужен был Наполеон, чтобы в 1815 г. открыть эту «консервную банку» — снаружи. Ощущается отсутствие культуры, замкнутость, закрытость. У общин остается реальная власть, но такое впечатление, что это все-таки больше власть коллектива, что индивидуализм протестантизма обернулся в них и другой своей стороной — коллективизмом. Стабильность оборачивается закрытостью и неспособностью меняться. И это в самом центре Европы, в окружении Франции, Австрии и Италии!
Невольно задумываешься о причинах этого, ведь если мы хотим всерьез возрождать в церкви общинную жизнь, то должны иметь в виду все ее исторические модели, весь мировой христианский опыт, как и все совершённые в этом отношении ошибки (кстати, в приверженности кальвинистской, пресвитерианской модели церковного устройства нас уже пытались обвинить). Мне показалось, что коллективизм возник от того, что Кальвин (как и вообще протестантизм) захотел внешним образом решить какие-то глубокие и внутренние вещи, которые так не решаются. Например, понятно, что доктрина о предопределении в его варианте избавляет человека от одержимости вопросом о собственном спасении, иногда характерной для католицизма: ты знаешь, что этот вопрос уже как-то решен, только не знаешь — как, но это и избавляет тебя от необходимости об этом заботиться, а освободившиеся силы ты можешь отдать попечению о ближнем и преображению мира. Но при этом из жизни человека почти исчезает, за ненадобностью, весь мистериальный, символический пласт религиозной жизни, искусство и т.п. Поэтому доктрина Кальвина звучит заманчиво, но нельзя человека механически «преобразить», он постоянно нуждается в сакраментальном освящении, в таинственном переживании искупления и спасения, в духовном переживании раскрытия своего сердца навстречу любящему и спасающему, прощающему и освящающему (т.е. делающему тебя Своим) Искупителю. Без этого сердце человека постепенно засыхает, религиозная жизнь подменяется нравственным императивом, община — коллективом, а творческое преображение мира — просто его благоустройством ради собственного комфорта.
Из-за этого проявляются и все очевидные достоинства, и все менее очевидные недостатки. С одной стороны, Швейцария — воплощение стабильности, основанной на местной соборности. Хрестоматийный пример, характеризующий эту страну. Швейцария — это конфедерация из 23-х кантонов, и имени президента всей конфедерации, как правило, никто не помнит, в отличие от главы своего кантона.
С другой стороны, эта же стабильность оборачивается невозможностью, неспособностью меняться, менять свою жизнь. Меняться страшно (как, например, сегодня швейцарцам страшно открыть свои границы единой Европе), а при прямой демократии есть все возможности не делать этого, да вот только жить без этих изменений — подчас невыносимо. Из-за этого в Швейцарии — самый высокий процент самоубийств и, соответственно, самый высокий процент психиатров на душу населения. Юнг, как известно, считал, что это как раз от того, что они лишили себя священных таинственных символов. Нельзя с ним не согласиться: если ты теряешь опыт раскрытия сердца навстречу тому всегда новому таинственному духу и смыслу, к которому зовет тебя символ и образ таинства, ты теряешь способность открывать для этого нового и свою реальную жизнь.
Из этого возник удивительный феномен Женевы. Женева — крупнейший международный центр: ООН, Красный крест, ВСЦ, масса других международных организаций, плюс один из крупнейших университетов, где учатся, в основном, студенты-иностранцы со всего мира. При этом сами швейцарцы живут, практически никак со всем этим шумным и пестрым миром не взаимодействуя. У них свой мир, очень консервативный, домоседный, который не очень виден снаружи. Впрочем, надо сказать, традиции общинной жизни есть традиции общинной жизни: сами студенты-швейцарцы, с которыми нам удалось пообщаться, производят очень приятное впечатление — куда более приятное, нежели вся шумная интернациональная компания из их же университета: есть в них какая-то домашность, простота, спокойствие, и я бы сказал, меньшая развращенность, что ли.
И вообще Женева — город очень домашний. Через две недели пребывания там мы пошли на благотворительный концерт в кальвинистский собор св. Петра (центральное и главное здание города; первый христианский храм на этом месте был построен еще веке в четвертом), представляющий из себя диковатое сооружение: ранний готический собор, к которому кальвинисты ради строгости пристроили классический портал! Студенты Женевской и Лозаннской консерваторий давали «Магнификат» Баха и еще что-то рождественское, но современное, кажется, Оливье Мессиана (для нас это было особенно радостно, так как по юлианскому календарю это было заговенье на Рождественский пост). Так вот, войдя в собор и оглядевшись, мы с удивлением выяснили, что живя в городе всего две недели, мы уже знаем довольно многих людей — причем не только в зале, но и на сцене.
Дела церковные
В первое же воскресенье мы всей группой отправились в храм Московской патриархии. Надо сказать, что до Наполеона в Женеве почти не было никаких храмов, кроме кальвинистских, да и сейчас в черте города до 1815 г. их практически нет (есть лютеранская кирха, но снаружи она намеренно «замаскирована» под жилой дом). Потом, когда Женева стала превращаться в международный центр, стали появляться и храмы других конфессий. (Сейчас в Женеве ок. 1% населения — практикующие кальвинисты, и ок. 12% — практикующие католики. Это соотношение на все накладывает свой отпечаток. Например, в Лозанне огромный готический собор, возвышающийся над всем городом, принадлежит кальвинистам, и по вечерам он совершенно пуст, хотя рядом, внизу — современный католический храм, заполненный людьми и очень живой).
В XX веке было решено завести и православный храм, и в качестве полномочного представителя православия сейчас выступает Русская зарубежная церковь. Так что теперь почти в центре Женевы красуется великолепная карловацкая стилизация, а патриархийный храм ютится в небольшом одноэтажном домике на самой окраине. Впрочем, как мы потом узнали, священник РПЦЗ относится к нашей церкви очень хорошо и старается поддерживать с ней общение. В храме МП служит о. Михаил Гундяев, но когда мы там были, служил о. Валентин Чаплин, гостивший в Женеве у дочери. Мы обрадовались, увидев его, он нас тоже узнал и после службы много с нами говорил. Мы, конечно, вспомнили «дела давно минувших дней» — конференцию «Единство церкви» и его смелое выступление на ней, а также дела менее отдаленные по времени, но не менее удручающие. Сам о. Михаил, как нам говорили, старается служить, максимально делая что-то для народа, например, читает «тайные» молитвы вслух, но людей в храме все равно немного, причащается же и того меньше — человек пять-семь (к нашему с Владимиром огромному сожалению, в тот день не причащался и никто из членов нашей группы). После литургии обычно бывает небольшое застолье, которое, кажется, занимает центральное место: у меня сложилось впечатление, что это, скорее, русскоязычный клуб, нежели община или даже приход. Тем не менее, побыть и причаститься в храме, освященном именами знаменитых иерархов и богословов, лучших участников экуменического движения, было для нас очень важно.
В следующее воскресенье в православный храм мы не ходили, так как была поездка в католический женский монастырь Вифлеемской Божьей Матери на горе Вуарон, где мы были приглашены присутствовать на Мессе. Сначала я воспринял это для себя как некоторую проблему: как можно присутствовать на Литургии, которую я, согласно традиции своей церкви, признаю действительной, и при этом не подходить к Чаше? Признаюсь, года три назад эта проблема поставила бы меня в тупик, но теперь, после двухлетнего опыта жизни в церкви отлученных членов нашего Братства и частых случав произвольного отлучения от причастия в некоторых храмах многих других братьев и сестер, все было гораздо легче. Я вспомнил слова Николая Кавасилы о том, что никто и ничто не может помешать Господу причастить человека, если Он того хочет, положился на Его волю, «которая есть освящение наше», и, мне кажется, и на этот раз не остался без причастности Христу).
Вместе с другими паломниками мы приехали в горы на машине и, поднявшись над облаками, еще шесть километров шли пешком в полном молчании, размышляя и созерцая потрясающей красоты залитые солнцем зимние Альпы. Иногда только делали остановки — для общей молитвы и пения гимнов. Тут я оценил возможности латинского языка в Католической церкви: ни французского, ни итальянского я не знаю, а вот когда запели «Laudamus omnes gentes, laudamus Dominus»Хвалите , все народы, хвалите Господа! (лат.), можно было даже присоединиться! Кстати, эта «секуляризованная западная молодежь» поет церковные гимны потрясающе. Мы же с нашей хваленой «духовностью», к сожалению, часто выглядим на этом фоне просто жалко.
Монастырь, в который мы в конце концов пришли (один из монастырей «монашеской семьи» внутри картезианского ордена, объединенной двумя названиями: «Вифлеем» и «Вознесение Девы Марии»), по-своему очень интересное, одновременно исключительное и характерное для поисков современного католицизма место. Он был создан католической монахиней, влюбленной в Православие и даже, кажется, проведшей какое-то время в православном греческом монастыре. Цель монастырской общины — «дышать двумя легкими» (выражение одного из Римских пап), т.е. в полноте этих двух традиций. Служат они по православному чину, читают восточных отцов, везде — православные иконы и т.п. Это вообще характерная черта современной Европы: православные иконы можно видеть во многих католических и даже протестантских храмах на самых литургически важных местах. В апсиде храма, куда мы были приглашены на Мессу, — копия «Троицы» Феофана Грека из Новгорода. Выглядит, на мой взгляд, великолепно, куда лучше рублевской… Но «полнота двух традиций» выходит несколько эклектичной. То есть нельзя сказать, что это совсем бесплодная попытка, нет, но во многом это, как мне показалось, — психологическая стилизация, и поэтому исихастская «тихость», молчание у них есть, а вот исихастской «энергии» — не хватает. Впрочем, я подумал, что они там имеют то, о чем мечтают русские девушки, когда уходят в монастырь: потрясающей красоты природу, уединение и т.п. Живут сестры всю седмицу по отдельности, в молитве и труде (при этом каждый день приходя рано утром в храм на Евхаристию и причащаясь), в Воскресенье же проводят время вместе. Насельницы в основном молодые, веселые, глаза светятся. Насколько этот свет духовный, насколько — психологический, это уже другой вопрос, но все-таки видно, что именно духовная ситуация в монастыре довольно здоровая, чего у нас так часто не хватает.
Принимали нас очень тепло, после Мессы устроили специальный чай у камина и т.п. Просили сказать, что мы лично думаем о проблеме единства христиан. Я сказал, в общем, то, что и думаю, без особого «политеса» (ситуация располагала говорить по-христиански, т.е. прямо): для меня в очередной раз стало очевидно, что две разделенные традиции никогда не жили, да и не могли жить друг без друга, что на разных уровнях (богословском, философском, обрядовом и т.п.) общение и взаимовлияние было всегда, но поскольку нет общения в Чаше, то все это выходит достаточно эклектично, и так и будет, пока мы к этому общению не придем. Поэтому надо как можно скорее восстанавливать евхаристическое общение, оговорив лишь какие-то совсем необходимые вещи: папский догмат и т.п.
В такие моменты особенно ощущаешь значение Евхаристии. Как ученики после Воскресения не узнавали воскресшего Христа в непривычном для них внешнем облике, узнавали же только в «преломлении хлеба», т.е. в евхаристическом приобщении к Его непрестающей жизни в Любви и Истине, так и мы, чтобы узнавать Христа в чужой традиции, должны жить силой Воскресения, а для этого, прежде всего, — в полноте своей собственной традиции, в том числе — евхаристической. В связи с этим я для себя вдруг с ужасом понял, что при теперешнем состоянии православия мы никак не можем идти на соединение: они нас просто раздавят. Я смотрел на своих спутников и думал: если людям, много думающим о единении церквей, настроенным на такое общение, все-таки оказывается безумно трудно преодолеть то, что нас действительно разделяет, то что же большинству остальных членов нашей церкви, которые даже не каждую неделю причащаются (в то время как принимавшие нас монахини подходят к Чаше каждый день)… В очередной раз мне пришлось на опыте понять, что ключ к решению проблемы восстановления единства лежит не столько в области разрешения канонических и догматических вопросов, сколько во внутренней миссии и катехизации, в устройстве общинной и братской жизни, во вхождении в полноту духа и смысла своей собственной традиции. Если мы сумеем «победить ненавистную рознь мира сего» в своем сердце и в своей церкви, то и этот вопрос решится.
На следующий день мы были в гостях у Анатолия Николаевича Афанасьева, сына о. Николая Афанасьева, который живет недалеко от Женевы во французском городке Бонвиль, которого мы, впрочем, не увидели из-за густого тумана. Мы привезли ему наши журналы с впервые опубликованными работами его отца, а Анатолий Николаевич передал нам еще кое-что из своего архива. Его супруга, Женевьева, расспрашивала нас о том, как мы пришли к Богу и в Церковь. А на обратном пути мы вспоминали необычайные обстоятельства единственного приезда Анатолия Николаевича в Москву на устроенные нашим институтом «Афанасьевские чтения», посвященные памяти его отца. Это были дни парламентского кризиса 1993 г…
Еще через неделю, 3 декабря, мы отъехали на уик-энд в Париж. Надо сказать, это особое чувство для русского: приехать в Париж, предварительно пожив в Женеве. Женева — город, в котором нет ни нищеты и бедности, ни показной роскоши и богатства. Напротив, Париж — город, где бьющая в глаза роскошь соседствует с нищетой клошаров-бомжей, распивающих в метро дешевое вино, и т.п. В общем, первая мысль: ну, мы — дома!
Преподаватель русской философии Петр Борисович Роснянский устроил нам небольшую экскурсию по «русскому Парижу», главным местом которого для нас оказалось, конечно, Свято-Сергиевское подворье: православный храм, устроенный в здании бывшей лютеранской кирхи, Богословский институт и убогий двухэтажный дом, где в «золотые времена» жили преподаватели.
На литургию нас пригласила в свой храм наша бывшая оглашаемая Оксана Устинова. Это был храм РСХД на ул. Оливье де Сер (храм — это просто переделанный небольшой дом). Отмечали престольный праздник, поэтому было архиерейское служение, служил архиепископ Сергий. Удивительным было сочетание архиерейской службы и абсолютной домашности, возвращающее одновременно и к совсем ранним христианским временам, когда епископ был и старшим братом и отцом, а не только владыкой, и к обстановке русского Парижа его лучших времен. Характерный эпизод: во время архиерейской проповеди после Евангелия к амвону выбегает девочка лет пяти, папа бросается за ней и пытается водворить ее на место. Архиерей останавливает проповедь и говорит: «Нет, не надо, не мешайте ей, пусть наши дети в наших храмах чувствуют себя свободно и радостно, как дома!» После службы мы, конечно, подошли к архиепископу, представились, подарили ему наш журнал. Потом была общая трапеза. Оксана познакомила нас с одной местной читательницей «Православной общины». Та поругивала современный русский церковный Париж. Говорит, что многие новые священники не имеют богословского образования и поэтому всего боятся, так что портреты деятелей РСХД еще висят, но больше не осталось ничего. Один только о. Борис Бобринский и есть. Я сказал, что мне понравился архиепископ. Она ответила словами патриарха Алексия (Симанского) о митрополите Сурожском Антонии: «Да какой он епископ, он хороший приходской батюшка».
Подходил к нашему столику и настоятель, о. Николай Ребиндер, спросил, откуда мы, вел себя приветливо, но несколько отстраненно: мол, «ситуация неоднозначная». Впрочем, когда прощались, приглашал приходить еще. Нам надо было довольно быстро уходить, но мы еще поговорили с Михаилом Ельчаниновым и некоторыми другими прихожанами, рассказали о ситуации в церкви и нашем братстве (толком ведь никто не знает ничего). Все выражали сочувствие.
Тем же вечером, после небольшой экскурсии по центру Парижа, мы были у о. Михаила Евдокимова на воскресной вечерне. В этот день у о. Михаила заболел и второй священник, и регент, так что он сам и предстоял, и регентовал, и пел. Служение его удивительное — очень какое-то тихое и в то же время глубокое, без стилизации, — в России я такого не встречал.
Утром в воскресенье мы отправились на литургию в крипту собора на ул. Дарю. Служил о. Алексей Струве, рукоположенный за неделю до этого, а настоятель о. Борис Бобринский проповедовал. Обстановка в храме очень близка к тому, что было в храмах нашего братства, к тому же мы там встретили нашего давнего прихожанина Всеволода Всеволодовича Гусева и еще несколько «заочных» знакомых и друзей нашего Братства. После службы мы подошли к о. Борису, поблагодарили за службу. «Откуда вы?» Мы сказали, он обрадовался и улыбнулся: «Ну, тогда давайте я Вас обниму и поцелую». «О. Георгий просил передать Вам поклон», — рассмеялся: «Ну, давайте, передавайте». Мы поклонились. Рассказали ему о ситуации, о «пресловутом «Радонеже»», он согласился: «Да-да, вот именно, пресловутый «Радонеж»!». «А вы что тут делаете?» «Да мы, вот, о. Борис, изучаем социальную доктрину церкви в Женеве, в Париж приехали на выходные». «А, хотите быть социологами, — и подмигнул, — может, лучше все-таки богословами?» Вообще, честно скажу, он произвел на меня сильное впечатление. Я о нем много слышал еще до своего крещения от своего восприемника, но со временем это заочное впечатление как-то забылось за всякими церковными делами, так что я благодарен Богу, что Он позволил мне увидеть о. Бориса при жизни и именно на Евхаристии, вне контекста церковной политики.
Затем в приходском доме был традиционный кофе (в Москве эту характерную парижскую традицию можно видеть в храме св. Екатерины на Всполье, куда она попала через Америку), там мы говорили с основателем православного информационного бюллетеня «SOP» Иваном Александровичем Чеканом, рассказывали ему о братских и общецерковных делах.
Кроме того, в Париже мы встретились с католической общиной «Эммануэль». Впечатление у меня осталось неоднозначное: та же характерная смесь жесткости и экзальтированности, хотя, конечно, и эти люди делают много нужного и хорошего.
Был еще обед в парижском Соловьевском обществе, организованном упоминавшимся выше Бернаром Маршадье. Это русско-французское общество людей, совместно изучающих русскую религиозно-философскую мысль. Нас постарались принять максимально «по-русски», так что пришлось закусывать селедкой, запивая ее, естественно, водкой.
К сожалению, времени на сам Париж почти не осталось, и я успел посмотреть только одну картину в Лувре и Сен-Шапель, что, впрочем, оказалось достаточно важно. Эта двухэтажная часовня, построенная в середине XIII в. Людовиком Святым для купленного им в Венеции Тернового венца Спасителя (украденного, в свою очередь, в Константинополе), — один из самых известных памятников высокой готики, выстроенный в виде огромного реликвария. На втором этаже стен практически нет, они заменены витражами, что в солнечный день выглядит весьма эффектно. Надо сказать, французская готика как нельзя лучше выражает уже упомянутые свойства западной традиции: очень жесткая и рассудочная внутренняя структура компенсируется и скрывается за счет экзальтации форм, жестов, цветов, узоров, к тому же в солнечный день не видно каркаса витража: одни горящие стекла. В готике нет пространства как такового, вернее, оно как бы составлено из однообразных «кубиков», и это отсутствие пространственного напряжения компенсируется за счет напряжения архитектоники стены. К тому же и оно не настоящее: в готике все несущие конструкции вынесены наружу, так что зритель их не видит. Мне в связи с этим вспомнилась одна статья С.С. Аверинцева, где он сравнивал описание посещения Св. Софии послами князя Владимира и описание крещения одного из французских королей: в первом случае «объекты миссии» были приглашены на обычное богослужение, во втором — для варваров устраивались спецэффекты. Поскольку все готические спецэффекты я знал, а признавать себя варваром не хотелось, Сен-Шапель показалась мне впечатляющим, но довольно скучным зрелищем. Утешило то, что, как нам рассказали, в Страстную пятницу католики и православные устраивают там совместные молебны. (Другое подобное место — храм св. Стефана около Пантеона (Сен-Этьен-дю-Мон), где находятся мощи св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Дело в том, что согласно древнему преданию прп. Симеон Столпник, узнав о ее подвиге, послал ей с паломниками поклон, и эта духовная дружба двух святых символизирует взаимное признание Западной и Восточной традиций). Важно же было еще раз воочию убедиться, насколько то, что происходило во Франции в XIII веке и вокруг него, до сих пор оказывается определяющим для всего католического предания.
Перед самым отъездом обратно в Женеву мы все собрались в парижской квартире Патрика де Лобье. Он живет в самом сердце Парижа — на острове св. Людовика (это остров прямо пред островом Сите, на котором стоит Нотр-Дам; остров св. Людовика — искусственный, устроенный специально, чтобы течение Сены не разрушило Сите). И вот с вечерней улицы св. Людовика, где расположены самые дорогие, наверное, в мире магазины и отели, ты оказываешься в крохотном дворике, а затем — в убогой холостяцкой, даже не комнатке, а настоящей келье, с потолком, держащимся на черных деревянных балках, и с ничем не прикрытой каменной стеной. Надо сказать, это впечатляет. У нас еще оставалось немного времени до поезда, и Патрик отвел нас в находящийся здесь же барочный храм св. Людовика. Местный кюре по просьбе Патрика показал нам храм, рассказал о жизни прихода. Интересно, что в приходе есть «пастырский совет», состоящий не только из клира, но и из мирян, которые выбираются от различных групп прихожан, объединенных по принципу служения. На прощание Патрик попросил что-нибудь спеть. Поскольку был конец воскресного дня, мы спели в центре храма «Воскресение Христово видевше…». К сожалению, пели только мы с Владимиром, но Патрик был, кажется, очень рад. Вообще же, в этом отношении было чрезвычайно неловко, ибо некоторые из наших спутников совсем отказывались молиться и петь вместе с католиками (или в их храмах). Зачем же тогда было ехать на их деньги?
Была у нас в Женеве и встреча с православными сотрудниками Всемирного совета церквей (ВСЦ). Нам показывали разные любопытные документы начала девяностых годов: проекты помощи со стороны ВСЦ «Радонежу», Свято-Тихоновскому институту, т.е. всем тем, кто сейчас больше всего на ВСЦ нападает… Мы рассказали о жизни нашего Сретенско-Преображенского братства, деятельности Высшей школы, Огласительного училища, познакомили их с нашими изданиями. Потом был разговор о сегодняшней церковной ситуации в России. В связи с тем, что мы много говорили об опыте новомучеников и исповедников Российских, который мы стараемся собирать, был интересный вопрос: правда ли то, что опыт новомучеников и исповедников сейчас как бы противостоит опыту «официального» экуменизма нашей церкви? Мы отвечали, что поскольку экуменизм этот, конечно, был во многом делом политическим, то определенное напряжение тут, естественно, есть, но надо понимать, что оно искусственно раздувается, причем те, кто, например, сейчас пытается очернить имя митр. Никодима (Ротова), делают это не из-за декларируемой приверженности опыту новомучеников и исповедников, а из-за собственных политических игр, куда менее церковно оправданных, нежели деятельность митр. Никодима. Настоящая же наша беда в том, что реального опыта новомучеников и исповедников никто толком не знает. «Может быть, моя мысль покажется вам парадоксальной, — добавил я, — но если мы хотим сейчас найти новую парадигму и новое основание экуменического движения, то их надо искать а) в опыте русской эмиграции, б) как раз в опыте новомучеников и исповедников, — и именно поэтому очень важно собирать этот опыт». Мы привели пример о. Тавриона (Батозского), сослались на статью архим. Августина (Никитина) о св. Иоанне Кронштадтском, где он рассказывает о его общении с англиканами и т.п. Кажется, эта мысль показалась перспективной.
По поводу положения нашего Братства и, вообще, сегодняшнего разгула фундаментализма и канонического произвола одна сестра из Антиохийской церкви, в свое время много занимавшаяся молодежным движением, утешала нас, говоря, что у них в церкви такая ситуация, связанная, по ее мнению, с невежеством духовенства, была несколько десятилетий назад, но ее удалось преодолеть благодаря молодежному движению. Мы сказали, что в нашем Братстве есть молодежные группы, и мы были бы рады иметь прямые контакты с молодежным движением в их церкви, для чего, может быть, были бы нужны какие-то их поездки друг к другу и т.п.
На одной вечеринке, которую для нас устроили изучающие русский язык швейцарцы, мы познакомились со студентом богословского факультета Женевского университета Жаном-Даниэлем Струбом. Он спросил нас, будет ли нам интересно встретиться с другими студентами. Мы, конечно, ответили утвердительно. К нашему удивлению, из 6 человек на этой встрече было 3 православных — румынский священник, поляк и болгарка. Оказалось, что они учатся в Шамбези, в недавно созданной там богословской школе, действующей в сотрудничестве с Женевским и Фрибургским университетами. (Это то, что называется post-graduate, т.е. школа типа аспирантуры для людей уже с высшим богословским образованием. Кроме образования, поступающим нужно еще благословение своего архиерея. Желательно, конечно, знание французского. Обучение бесплатное, длится 2 года. Диплом и звания выдает Фрибургский университет). Нас попросили рассказать, как в нашем Братстве ведется миссия и катехизация. Православные на все кивали, но через час ушли (им нужно было на поезд). Оставшиеся задавали вопросы. В основном они касались взаимоотношения церкви и государства в России и межконфессиональных отношений (им все закон о вероисповеданиях покоя не дает).
Потом мы еще раз встретились с этими православными студентами в Шамбези после литургии. Там в крипте греческой церкви есть франкофонный приход, куда нас пригласил один из сотрудников ВСЦ, и мы решили в последнее воскресенье отправиться туда. Местный настоятель, о. Иоанн, француз, закончил Свято-Сергиевский институт, а староста, адвокат Тихон Траянов, — двоюродный брат о. Александра Шмемана, так что в храме царит «парижско-русский» дух. Вообще очень чувствуется любовь именно к русскому православию, что нам, конечно, было очень радостно. Народу в храме было довольно много, куда больше, чем в храме Московской патриархии; все, конечно, причащались. В храме мы еще раз встретились с матушкой о. Михаила Евдокимова (она приехала на день рождения внука), которая, кажется, была очень рада снова нас видеть, обняла и расцеловала. Так что мы опять почувствовали себя немного как дома, к тому же богослужение и вообще обстановка в храме опять заставили нас вспомнить наши потерянные храмы… После службы был традиционный «парижский» кофе, там мы немного поговорили с г. Траяновым, он рассказал нам о приходе, о местном митрополите Константинопольского патриархата Дамаскине (именно митр. Дамаскин ведет столь, к сожалению, часто пререкаемую у нас работу по объединению с древневосточными церквами). Редкий, говорит, епископ: помогает, но ни во что не вмешивается, а ведь обычно все бывает наоборот! (Мы, конечно, не могли не оценить юмор). Потом студенты накормили нас обедом, и мы еще пообщались.
Смерть в Венеции
Эта часть путешествия — «за скобками», в том смысле, что об этом никто не знал. Почему я решился поехать в Венецию, хотя у меня на это был всего один день? Дело в том, что Венеция, бывшая до Парижа столицей Европы, это вообще место, в котором слишком многое сошлось, а для меня как для историка искусства Венеция — это еще и место, где две церковные традиции — западная и восточная — были как никогда и нигде более близки друг ко другу. Поэтому и без того давнее и постоянное сильное желание оказаться там в этой поездке стало только сильнее и отчетливее: после моих свежих западных впечатлений (и некоторого, честно скажу, уныния в отношении перспективы соединения церквей) хотелось проверить, верны ли они или я все это себе придумал.
Надо сказать, Наполеон сыграл в судьбе Венеции ту же роль, что и в судьбе Женевы. Венеция — место популярное, о ней много сказано и написано: сосредоточение на небольшом островке земли такого количества красоты, а также имена ее сынов, изменивших лицо земли, не могут не притягивать: без Палладио, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Вивальди, Гоцци, Гольдони, Казановы наконец, мы бы жили, по крайней мере внешне, в сильно другом мире. При этом часто забывают главный феномен этого места: республику, которая и породила на свет всех этих людей. В этом отношении Венеция и похожа на Женеву, и в то же время прямо противоположна ей. Венецианская республика — тоже своего рода община, место, где люди умели жить, работать и служить вместе. Как и в Женеве, Большой совет республики регламентировал всю жизнь до мелочей, но он умел делать это так, что жизнь эта не затухала, а расцветала. Один историк писал, что в Венеции «умели служить отечеству даже прелестью женщин и красотой жизни». Только на этой почве и могли вырасти и та уникальная венецианская культура, которая и наследует остальному итальянскому Ренессансу и, в то же время, качественно от него отличается. Республика давала каждому ее члену жить не только на пределе возможного усилия, но и в раскрытии предельной глубины духа, и граждане с радостью принимали эту возможность. Может быть, и сама красота Венеции — лишь окаменелость этой живой красоты совместной жизни, того, о чем мечтают утописты, но что, как правило, никогда не получается?
Мы приехали на вокзал Санта-Лючия в 8 утра, вышли на набережную Большого канала и, увидев прямо напротив нас храм св. Симеона Малого, возблагодарили Бога, перешли через Понте-дельи-Скальци («мост Босоногих») и пошли по городу, заходя во все встречающиеся храмы. Первые впечатления были удивительны: например, я прекрасно знал храм Санта-Мария-деи-Мираколи, построенный Пьетро Ломбарди, но не мог представить себе, что это настолько красиво! (В очередной раз пришлось отметить, что туристические маршруты не совпадают с реальностью: мы просидели там полчаса, не в состоянии покинуть это место тихого света, ясной радости и покоя, и за это время не появилось почти ни одного человека!) Неожиданно я понял одно важное свойство этого города, которое не поймешь по книгам. Большинство его улиц — не больше метра шириной, и в какое-то реальное пространство ты попадаешь только входя внутрь очередного храма (некоторые венецианские храмы просто огромны). То есть пространство рукотворно, оно не дано сразу, за него надо бороться, его надо отвоевать у тесноты. И эти бесчисленные храмы, в каждом из которых свое неповторимое пространство, — наглядный образ воплощения евангельских слов: В доме Отца Моего обителей много
…
Конечно, немного расстраивает, что в этих храмах наиболее чтимыми подчас оказываются не ренессансные шедевры, а какие-нибудь слащавые богородичные бюсты XIX века…
Путешествие по Венеции может быть уподоблено рассматриванию богато украшенной книги, в которой первое, что привлекает внимание, — дорогой узор, обрамляющий все ее страницы. Большинство туристов, кажется, и принимают этот готико-мавританский узор за все ее содержание. Но это далеко не так: на каждой ее странице есть еще особая картинка и свой текст, который надо уметь прочесть. Текст этот повествует о том, как семя византийской традиции, попавшее на северную, готико-ренессансную почву, постепенно дает свои всходы и приносит плод. Греческое пространство и мозаики собора Сан-Марко — вот что оказывало свое постоянное влияние на ум и душу жителей Венеции, и именно здесь, на этом небольшом клочке отвоеванной у моря земли, искания Ренессанса дали то решение, которое стало универсальным для всей Европы и чуть ли не всего мира — архитектура Палладио и живопись Тициана. Именно Палладио сумел окончательно вернуть архитектуру к античным формам и классической ясности, но только теперь она стала внутренне прозрачной, легкой, по слову Мандельштама «воздушно-каменной», христианской, вобравшей в себя и ясную пространственную глубину византийского храма, и каменное напряжение западной готики…
Когда мы дошли до Сан-Марко, выяснилось, что из правила внутреннего пространства есть одно грандиозное исключение — огромная площадь морской лагуны между набережной Сан-Марко, Кампо-делла-Салюте, островом Сан-Джорджо-Маджоре и Джудеккой. Это как бы огромная многокилометровая площадь, на которую выходят фасады прекраснейших в мире зданий. Но в том-то и дело, что пройти по этой «площади» — невозможно. Поэтому исключение воспринимается как подтверждение правила: не огромное пространство, а скорее, разрыв в пространстве — постоянно присутствующая граница с потусторонним, метафора смерти (непреодолимость этого разрыва обретает особую весомость, когда узнаешь цены на билеты на катер, чтобы это пространство пересечь). Вообще, два соседствующих, противоположных, но время от времени пересекающихся способа перемещения по городу, — пешком и по воде — уже рождают это уникальное ощущение соседства, близости, постоянной встречи двух миров, жизни и смерти. Не случайно предельное, почти невозможное в этом мире совершенство красоты Венеции у многих ее почитателей ассоциируется со смертью: через эту прекраснейшую в мире «площадь» пешком уже не перейдешь. Многие поэтому пишут даже о «двух Венециях» — Венеции пышного праздника жизни и Венеции мистической глубины, глубины темных венецианских вод, которые ассоциируются то с Летейскими водами сна и забвения, то с крещенской водой Прощения и Участия…
Когда мы вышли из Сан-Марко, вода была уже везде: пошел сильнейший дождь, просто ливень. И хотя приятно было стоять в нартексе собора под знаменитыми мозаиками цикла «Сотворение мира» в абсолютном окружении воды, идти дальше было невозможно. Делать было нечего, и мы отправились смотреть расположенный по соседству дворец Дожей, о чем я впоследствии пожалел: когда у тебя один день в Венеции зимой, тратить два светлых часа на все эти бесконечные погонные метры Веронезе-Тинторетто-Тьеполо мне показалось расточительным, не говоря уже о бешеной цене на билет. Потом все-таки поехали в Сан-Джорджо-Маджоре (где по понятным причинам присутствует особая благодать молитвы о нашем Братстве), посмотрели «Тайную вечерю» Тинторетто, но были уже почти сумерки, а мрамор требует света, поэтому собственно храма почти не увидели. Сплавали и на Джудекку, но мой любимый храм дель-Реденторе (Христа-Искупителя), который я, собственно говоря, больше всего и хотел увидеть в Венеции, оказался на реставрации до февраля…
Я расстроился… Холодно, сыро, серо, отовсюду течет, ржавчина и потеки особенно бросаются в глаза. Город как будто бы тот, что ты знаешь по книгам, картинам и фотографиям, но в то же время ты как бы его и не видишь, краски ушли под серую пелену дождя и тумана… Венеция как бы потеряла для меня все свое экзистенциальное очарование и превратилась в объект, остывшее тело, в котором различаешь любимые черты, но больше не находишь жизни. Что происходит, — думал я, — почему я ничего не вижу? Неужели я все-таки ошибся и никакого благословения свыше приехать сюда сейчас у меня, в действительности, нет? Да и правда, подумал я, с чего это я решил поехать в Венецию сейчас, в нашей церковной ситуации, когда не до разглядывания красот?..
Когда мы вернулись с островов, было уже совсем темно. Поплыли обратно по Большому каналу и вдруг увидели, что в открытых дверях музея Академии горит свет (это было неожиданно, так как мы привыкли, что в Европе все закрывается очень рано). Мы зашли, я стал читать своей спутнице (нашей переводчице) что-то вроде лекции о венецианской живописи и чувствовал себя по-прежнему неуютно, — до того момента, как мы добрались до одной из четырех, кажется, работ Тициана, там находящихся. Это была его последняя «Пьета». Надо сказать, что впечатления от встречи с подлинниками Тициана всегда неожиданны. Так было и в этот раз. «Пьета» эта для Тициана — что-то вроде Реквиема у Моцарта: он писал ее в последние несколько лет жизни для церкви Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, где хотел быть похоронен, но так и не смог закончить (как и «Реквием», она закончена учеником). Не смог, поскольку хотел, видимо, большего, чем можно вообще сделать в живописи: все известные возможности его уже не удовлетворяли, он даже практически оставил кисть и клал краску голыми руками, пальцами. Все, включая ближайших учеников и поклонников, считали, что он выжил из ума, и скорбели, что он губит свой талант. Все это, конечно, по книгам я довольно хорошо знал, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания.
Первое, что поразило, — полное совпадение с тем, что было в этот день снаружи. Вечер пятницы, и та же серость, поглощающая все обычно столь интенсивные тициановские венецианские краски… Люди, начиная с Самого Иисуса, как бы «земленеют», теряют жар, цвет, тепло, жизнь, превращаются в объекты, сливаются со стеной, на фоне которой все происходит… Сам исходящий от Христа свет становится резким и холодным, как бы черным. Львиные маски с их жутким оскалом словно говорят: «Наше время и власть тьмы»… Но это только первое впечатление. Через какое-то время начинаешь понимать, что этот свет не просто поглощается стеной, он продолжает жить в ней, и что хотя люди, действительно, поглощаются смертью, застывают и холодеют, статуи на заднем плане (Моисей и ангел с крестом) начинают оживать: Если они замолчат, камни возопиют
. Я как бы увидел оживающие «похвалы» Страстной субботы: «Как света светильник, ныне плоть Божия под землю, как под спуд, сокрывается и рассеивает адскую тьму»… Львиные маски тоже получают долю этого света жизни, и их оскал превращается в выражение гнева Божьего: И земля потряслась, и камни расселись, и гробницы открылись, и многие тела усопших святых восстали
. «Под землю сошел Ты, Светоносец правды, и мертвых воздвиг как от сна, рассеяв всякую адскую тьму». (Конечно, нельзя было не вспомнить здесь и некоторые поздние стихи Мандельштама, прежде всего «Тайную вечерю», где во многом то же ощущение света, продолжающего жить в «стене» (и в Церкви): «Небо вечери в стену влюбилось,/ Все изранено светом рубцов./ Провалилось в нее, осветилось/ Превратилось в тринадцать голов»…)
Причем все это написано с редкой даже для Тициана, последней, предсмертной свободой и силой, почти страстью. Потом что-то подобное можно будет найти у Рембрандта, но тот уже зависит от Тициана, и потом он все-таки северянин, ему в смысле темперамента до Тициана далеко (до голых рук он, кажется, не доходил). Я могу сопровождать свои впечатления евангельскими и богослужебными цитатами, но замечательно, что Тициан действительно достигает всего этого без всяких цитат, просто живописью, просто давая звучать самой краске! Здесь западная сосредоточенность на Страстях и на Страстной пятнице (т.е. Пасхе крестной), в особенности (тут я вспомнил и свое недавнее посещение Сен-Шапели, и особую мистическую связь со Страстной пятницей, например, Петрарки), достигает своего апогея: нельзя сильнее изобразить Смерть, и в то же время, когда она так изображена, проступает ее неотделимость от Воскресения, и наоборот. «Смертию смерть поправ…»
Мне стало ясно, почему я впервые увидел Венецию, которая вообще-то ассоциировалась у меня прежде всего с Воскресением (и отчасти — с Преображением), именно дождливой зимней пятницей…
Мы просидели перед этой «Пьетой» до самого закрытия Академии. Уходить не хотелось: это был поистине конечный пункт нашего путешествия, сердце Венеции, где не было больше «двух Венеций» — жизни и смерти, но одна непостижимая и всеобъемлющая реальность этого замечательного западного города, где подспудно «работает» восточная традиция. Не было больше и двух традиций — объективирующей западной и более внутренней восточной: смерть, как крайняя точка объективации, неожиданно стала своей противоположностью, жизнью… Так может быть не случайно, что одно из первых напряжений между двумя церковными полюсами касалось именно дня празднования Пасхи: шестой день недели или первый (восьмой), пятница или воскресенье, Пасха крестная или Пасха воскресная? Тогда, правда, было наоборот: Восток стоял за Пятницу, а Запад — за Воскресенье, что само по себе о многом говорит. Может быть, и все наши сегодняшние разделения от того, что мы не умеем вместить этой неразрывной связи, взаимопроникновении Креста и Воскресения? И не прав ли Андрей Тарковский в последних кадрах «Ностальгии»: если мы хотим нести свет, который может рассеять мрак разделения, мы, чтобы что-то соединилось, должны иметь в виду, что при этом должно будет разорваться наше сердце?
Конечно, это равновесие было очень хрупко (даже для самого Тициана эта его предсмертная «Пьета» уникальна), да и длилось оно недолго, быстро распавшись на Тинторетто, в лучших работах которого можно видеть продолжение того же трагического света, мистически пронизывающего все пространство священной истории, и Веронезе, в свою очередь продолжившего тициановскую же традицию изображения полноты и насыщенности бытия при свете солнечном, дневном, внешнем. Предтечу многих веронезевских композиций можно видеть здесь же, в Академии, в тициановском «Введении во храм». Русскому человеку это может быть особенно понятно, поскольку у нас точно так же из Пушкина (а вовсе не из «Гоголевской шинели») вышли Достоевский и Толстой, взаимодополняющие друг друга, но все-таки и вместе не достигающие уникальной целостности пушкинского видения.
И все же, несмотря на историческую неизбежность подобных распадов, я уезжал из Венеции в Женеву и потом, через несколько дней, из Женевы — в Москву, с ясным ощущением как бы даров пережитого таинства. Я вспомнил недавний рассказ о. Георгия о его последней поездке в Италию — о леонардовской «Тайной вечере» и видном в ней уходящем свете Ренессанса, и радовался, что мои предположения относительно места Венеции во всей этой истории не оказались надуманными: я видел свет, который уходил, но оставался, и понимал, что как бы ни было потом трудно, я всегда буду знать, что этот свет, подобно свету Крещения, всегда светит и просвещает тьму.