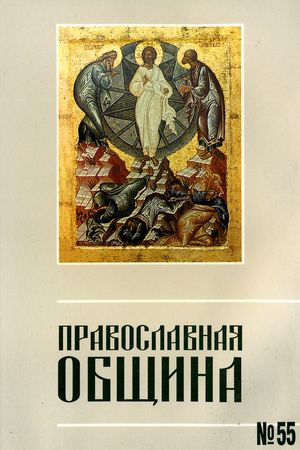Воспоминания об отце Таврионе (Батозском)
Моя мать, р.Б. Валентина, с детства крещеная и воспитанная в религиозной деревенской семье, с начала самостоятельной жизни, в которую она вступила 14-летней няней в Риге, видимо, не теряя веры, в то же время жила как большинство советских людей. Училась в вечерней школе, устроилась на работу, вышла замуж. Родились дети: забота о хлебе, квартире, благосостоянии — круг ее забот и интересов. В этот период вступила даже в партию. Впоследствии она не могла толком объяснить этого шага, видимо, просто плыла по течению.Но в 1968—1970 годах она стала чаще ходить в храм, дома появились книжечки религиозного содержания. В монастырский храм преп. Сергия брала она и нас, детишек. В круг знакомых вошли несколько благочестивых женщин, которые помогали нашему воцерковлению. Наконец, однажды одна из них пригласила мать съездить в Пустыньку — монастырь под Елгавой.
Вернувшаяся из поездки, мать с чувством рассказала нам о монастыре, лесе и чудном батюшке. И в следующий раз она уже взяла и нас с собой. Мы прибыли в Пустыньку поздно вечером и устроились на ночлег у послушницы Ирины в скромном домике у колодца. После чая и разговоров, кратко помолясь, легли спать, но уснуть не удалось по причине многочисленных клопов. Часть ночи прошла в борьбе с ними, и утром, недостаточно отдохнувшие, мы молились в храме преп. Иоанна Лествичника. Служение о. Тавриона мне тогда не запомнилось. Осталось впечатление от деревянного храма, от балок сруба, от полумрака и какой-то уютности. Поездки стали повторяться. Ночевали иногда у п. Ирины, иногда у родственников в Елгаве, а рано утром на автобусе добирались до Пустыньки. Поначалу нести эти труды у меня большого желания не было. В Елгаве мы, дети, встречались с двоюродной сестрой, весело проводили субботний вечер, а утром надо было рано вставать и, иногда в непогоду, отправляться в монастырь. Но потом что-то изменилось. Я почувствовал тягу бывать в Пустыньке. Благодатность служб, весь дух монастыря находили отклик в душе. Приезжая в Пустыньку, мы оказывались как бы в другом мире. С одной стороны, после шумного города с его суетой и темпами жизни нас встречал сосновый лес, чистый воздух, деревенский размеренный быт, с другой, — и это отмечают многие бывавшие в Пустыньке, — мы погружались в некое неземное измерение, где близко чувствовалось благодатное веяние Духа Святого.
На весенние каникулы 1970 г. в Пустыньку я отправился уже один. Мать, провожая, дала мне с собой на жертву в монастырь литровую банку мёда и 10 рублей денег. Последним автобусом из Елгавы доехал до поворота на Пустыньку. Автобусная остановка находилась дальше по дороге в метрах 400, но паломники обычно просили шофера остановить на перекрестке. На нем я и вышел. Сопутчицей моей оказалась одна из духовных чад батюшки р.Б. Лидия. Впоследствии я близко с ней познакомился. О. Тавриона она знала еще по его служению в Ярославской епархии, в Пустыньку последовала за старцем, работала в Елгаве в каком-то учреждении уборщицей, а все остальное время жила и трудилась в монастыре. Вдвоем, в темноте, по грунтовой дороге пришли мы в Пустыньку.
Лидия отвела меня на трапезу и устроила на ночлег. Поселили меня в каменном, белого кирпича корпусе в комнате с двумя молодыми людьми, обоих звали Александрами. Оба были неофитами, оба желали служить Церкви в священническом сане.
Невозможность поступить в семинарию по причине идеологического контроля привела этих людей в Рижскую епархию, где мудрый архиепископ, впоследствии митрополит Леонид (Поляков) умел иногда протолкнуть своего кандидата сквозь тесные врата уполномоченного по делам религии. В ожидании решения своего вопроса ребята жили в Пустыньке, где их привлекали к участию в богослужении. Они читали часы, шестопсалмие, Апостол и трудились на равных монастырских послушаниях. Один из них, Александр Фокин, даже устроился где-то работать в Елгаве и переплетал книги для о. Тавриона. Лет через 20 я его встретил в сане дьякона Вологодского кафедрального собора.
Мое кратковременное пребывание в Пустыньке, около недели, попало на время Великого поста, и длинные покаянные службы дали мне почувствовать трудность монашеского молитвенного делания. Особенно трудно было вставать утром, в холоде умываться и еще затемно идти в церковь. Постное облачение храма, скромное освещение клироса, немногочисленные старицы-монахини в левом крыле храма и бьющие поклоны паломники — это живое впечатление тех дней. О. Таврион выходил из алтаря на поклоны и для чтения. В мантии, клобуке и епитрахили, держа в руках книгу, он читал, стоя на солее. Рядом ставили переносную лампу. Зрение у него было хорошим, до самой смерти очки не носил. Что читал он тогда, я не помню, да и не запомнил бы по малому тогдашнему знанию богослужения и святоотеческих творений. Впоследствии я узнал, что это были именно творения св. отцов. О. Таврион рассказывал, что он таким образом прочитал «Невидимую брань» св. Никодима Святогорца и скорбел, что никто из монашествующих не пришел с вопросами о прочитанном и ни у кого не возникло потребности в духовном руководстве. Читал батюшка также каноны на утрене. В центре храма у праздничной иконы на аналое, иногда двух, разложены богослужебные книги. О. Таврион в ризе и митре характерным энергичным голосом читает тропари поочередно с монахиней (то были ин. Варфоломея и м. Афанасия). Каких-то особенностей великопостных служб не помню, так как бывал на них нечасто: в Пустыньку я приезжал на каникулах, да по выходным дням, а Великий пост приходился на учебное время.
Общей чертой всего служения старца была активность его как предстоятеля. Не одно молитвенное пребывание в алтаре, но и стремление зажечь молитвенной искоркой народ и клирос руководило им. Отсюда — его регентование на левом клиросе, куда он выходил на стихирах, частый призыв к пению всем храмом тех неизменяемых песнопений, которые известны каждому верующему. Левый клирос был полностью детищем о. Тавриона. Составлен он был из духовных чад батюшки, которые периодически приезжали из разных концов страны, обычно мест служения старца, и какое-то время жили, молились и трудились в Пустыньке. Поэтому состав хора постоянно менялся. Это были простые женщины без музыкального образования, но часто с хорошим слухом. Пели на два голоса, но полноценное звучание было лишь с о. Таврионом. Он, как головщик, громким высоким баритоном твердо вел мелодию гласа. Иногда он задавал тон, например, мажорную терцию, не называя нот, и собранными указательным и большим пальцами, направленными вверх, подчеркивал звучание верхней ноты для дискантов. Следил он и за стройностью пения. Если появлялся диссонирующий голос, то строгого взгляда, а иногда и предостерегающего жеста было достаточно, чтобы человек внимательнее прислушался к своему звучанию в хоре. На службе пели клиросами, начинал правый монастырский, где по большей части читали стихиры и исполняли более сложные песнопения. Правый клирос тоже не был обделен вниманием старца. Регентом там была инокиня Варфоломея, недавно поступившая в монастырь и с уважением относившаяся к о. Тавриону. Временами он приглашал ее к себе, разъяснял уставные моменты службы и поручал разучить новые песнопения. Так на правом клиросе стали петь «Имже образом желает елень», «Аще и всегда», полиелей с канонаршением почти всех стихов 134-го и 135-го псалмов.
Вообще, о. Таврион часто говорил в проповедях о пении, призывая мирян соучаствовать в богослужении своим пением и чтением. Он считал, что безнадежно немузыкальных людей нет. Слух можно развить, проявив терпение и усидчивость. От природы одаренный слухом и голосом, батюшка рассказывал, что он, тем не менее, в 20-е годы молодым монахом много трудился над своими данными. В лесу или в пустом храме он отрабатывал моменты служения дьякона, священника, спрашивал совета у известных московских регентов. В то же время в его служении не было никакой академичности, а очень живое молитвенное взывание. Дома о. Таврион иногда слушал пластинки. Записей русских церковных композиторов тогда практически не было, зато произведения западных авторов, писавших для церкви, имелись в продаже, и о. Таврион имел большую фонотеку. Это были Бах, Бетховен, Гайдн, Моцарт и др. На слушание какой-нибудь мессы приглашались и близкие духовные чада. Другой раз музыка звучала фоном, а батюшка занимался текущими делами, в первую очередь обширной перепиской. В период Святок ставились пластинки с украинскими колядками, пелись они и в храме. Московские священники, гостившие в Пустыньке, привозили в подарок старцу редкие записи. Когда я близко познакомился с о. Таврионом, мне было лет 11—12, музыкой со мной до этого не занимались, сам я не был певческим ребенком, и тем не менее, батюшка благословил приобрести мне и сестре инструмент и заняться музыкой. Хотя я впоследствии мало усердствовал об этом благословении, эти уроки дали мне многое.
Несколько дней весенних каникул прошли быстро и, уезжая, я пошел на благословение к старцу. Принимал он, отслужив Литургию, в будни после завтрака, а в праздничные и воскресные дни — после обеда и небольшого отдыха. В то время дом о. Тавриона не имел еще многочисленных пристроек и веранд, и посетители входили в дверь напротив паломнической трапезной. Они попадали на небольшую веранду и далее в дверь по коридору направлялись в приемную комнату. Коридор разделял дом на две половины: справа — покои батюшки, слева — приемная и кухня. Была еще и летняя кухня напротив веранды, где готовили летом и разбирали получаемые от благотворителей посылки. Летом о. Таврион часто принимал на веранде. На прием я принес мёд и деньги, данные матерью. Старец с благодарностью принял приношение, пригласил приезжать. Я, конечно, очень робел, ничего не спрашивал. О. Таврион благословил меня, и я поехал домой. Мать была рада за меня, но когда наступили летние каникулы, на семейном совете было решено отправить нас, детей, в деревню, на родину матери в Смоленщину. Туда отправляли нас ежегодно. Трехмесячное пребывание в русской деревне без храма может и было полезно телу, но не душе. О. Таврион любил повторять в проповедях святоотеческую мысль, что душа ребенка — это мягкий воск, на котором родители, взрослое окружение ставят печать воспитания. И от них зависит, отпечатается ли в душе образ Христа.
О русской деревне, прошедшей лихолетья безбожия и взрастившей человека «новой формации», сказано много. И хотя «не стоит село без праведника», и видимо, здесь также были верующие богомольные старушки, жизнь села определяли не они.
Тем летом попробовал я и курить, и ругаться, сверстники просветили по вопросам пола, человеческих взаимоотношений.
Лишь однажды летом, в приезд матери в отпуск, мы отправились километров за 10—12 в храм. С каникул вернулся я отвыкшим от церкви, молитвы, но в Пустыньку тянуло. Тот год был для нашей семьи особым: мы получали собственную двухкомнатную квартиру (до этого жили в однокомнатной коммунальной), и занятость этим делом не позволяла отправлять меня в монастырь.
Наконец, на весенних каникулах мы переехали на новое место жительства. В этом событии я усматриваю особый Промысел Божий. На прежней квартире, где я жил с самого рождения, у меня было много знакомых ребят, мы постоянно осуществляли какие-то детские затеи, я жил двором. На новом месте для меня все было чужим, и я не сдружился с местными сверстниками.
Стал более домашним, появился интерес к чтению. По окончании 5-го класса, летом я вновь отправился в Пустыньку и прожил там все три месяца. В это время началось мое церковное служение. По благословению о. Тавриона я стал петь и читать на клиросе, прислуживать в алтаре. К концу лета батюшка поселил меня в своем доме, в приемной комнате. Таким образом, я мог наблюдать за жизнью старца в непосредственном общении с ним.
День у него начинался очень рано. Не помню, чтобы я проснулся раньше батюшки. Обычно он будил меня незадолго перед отходом в храм, т.е. около половины пятого утра. Поэтому о его молитвенной подготовке к службе определенно сказать не могу. Утром он всегда был очень собран, сосредоточен и немногословен. Войдя в храм, о. Таврион по-монашески совершал три поясных поклона, прикладывался к праздничной иконе, которая в будние дни стояла у правого клироса. Старец подчеркивал, что центральное место храма — алтарь, и загораживать его аналоем с иконой не дозволял. В какие-то моменты службы икона ставилась в центр храма, например на полиелей, когда и богослужение как бы переносилось сюда из алтаря.
Далее батюшка направлялся на амвон и у царских врат читал входные молитвы, входил в алтарь, поклонялся престолу и облачался. К алтарю у него было особое благоговение. Облачался он в небольшой ризнице у южных врат иконостаса и однажды сделал мне замечание за мое облачение в стихарь в алтаре, порицая такой обычай как неблагоговейный. По окончании службы он всегда сам складывал облачение, показывая, как это надо делать правильно, чтобы оно не мялось. В ризнице были сделаны стеллажи, где и хранилось несколько комплектов облачений.
Облачения о. Таврион любил, и часто к праздникам шились новые ризы. С улыбкой вспоминал он слова одной своей духовной дочери Евдокии, которая в простоте сердца заметила: «Батюшка старый, а наряжаться любит». Парча в то время отечественной промышленностью не выпускалась, но в Риге, в комиссионных магазинах, бывали в продаже привозимые из-за границы отрезы современных тканей с имитацией золотой и серебряной парчи. Старец сам выбирал материал, и весь процесс пошива проходил под его наблюдением. Он указывал, где должны быть ленты, кресты, пуговицы и т.п. Оплечья его риз не имели жесткой подкладки, и потому они облегали плечи и походили на древние. Было у него несколько митр, подаренных архиереем и почитателями, но предпочитал он 2—3 наиболее легкие и удобные. Награжденный тремя крестами (два с украшениями и один — голубой патриарший), носил он их только на большие праздники и на соборные общеградские богослужения в Риге, куда его приглашал владыка Леонид. Обычно же на нем был один крест.
Поездки в Ригу давали о. Тавриону возможность познакомиться с религиозной жизнью Латвии. Вместе с вл. Леонидом они служили в латышском Вознесенском приходе, в качестве гостей бывали на Рождественских богослужениях в католическом соборе. Приглашал их туда архиепископ, впоследствии кардинал Юлиан Вайводс. О. Таврион уважительно относился к католичеству, поддерживались и личные отношения с католическим духовенством. К Рождеству и Пасхе посылались взаимные поздравления. В гостях в Пустыньке бывал упомянутый архиеп. Ю. Вайводс и декан елгавского католического прихода А. Булиньш. Не касаясь различий в вероучении Церквей, о. Таврион подмечал достоинства католической церкви-сестры и стремился использовать этот положительный опыт в своем священническом служении. Достоинствами католичества он признавал богатый миссионерский опыт, церковную дисциплину. Ему, как монаху, близко было и несемейное духовенство католиков. Были у батюшки и некоторые внешние заимствования, например в украшении алтаря.
Проблема разделения церквей волновала о. Тавриона. Считая разделение исторической ошибкой, он радовался всякому взаимному сближению церквей. Над его рабочим столом в келье висели фотографии встречи Вселенского патриарха Афиногора и папы Римского Павла VI и заседания Второго Ватиканского собора. Для него был ценен дух тех инициатив, которые были проявлены в этих исторических событиях. В условиях Латвии ему, как священнику, часто приходилось встречаться с ситуацией сосуществования, сотрудничества людей разного вероисповедания в коллективах, семьях. Примером может служить и наша семья, где отец был католиком. Он был верующим человеком, на большие праздники ходил в костел, но с начала семейной жизни не мог причащаться по правилам Католической церкви, так как брак был не венчан (мать не согласилась на переход в католичество, что тогда требовалось для венчания).
Личность о. Тавриона привлекла и моего отца. Он начал приезжать в Пустыньку, бывать на службах, а впоследствии исповедаться и причащаться. Наконец, настал радостный для нас день, когда старец повенчал родителей. Совершено это было негласно в келье батюшки. При этом никакого формального перехода в Православие не было, но в дальнейшем отец жил православной церковной жизнью. Лишь в последние годы его жизни неосторожность одного священника, потребовавшего формализации в этом вопросе, смутила отца, и он года 3—4 не причащался. Для нас, детей, это было скорбно. Ко мне как священнику идти на исповедь отцу было трудно. Отпевал его я по православному чину.
После облачения начиналась проскомидия. Каких-то особенностей на ней не было, поминаний длинных тоже. Приезжающие паломники, конечно же, заказывали сорокоусты, годовые и т.н. вечные поминовения за живых и усопших, присылались деньги на помин и по почте. Все имена благотворителей, жертвователей и тех, о ком просили молитв, записывались в синодики, которые прочитывались за проскомидией и литургией певчими левого клироса. Синодиков было много, и в тетрадях и на картонных листах. В алтаре же творилась молитва за тех, кто особенно в ней нуждался. На Литургии, на сугубой ектенье, поминались исповедники, именинники, тяжело болящие. Завершая проскомидию, при возложении покровцев и воздуха, о. Таврион кадил большим куском хвойной смолы, подпалив его на пламени свечи. Смола использовалась как ладан на всех службах, что было естественно в Пустыньке, расположенной в хвойном лесу, и по своему скитскому положению. В дар Богу приносился плод местной природы. Иногда терпкий дымок мешал клирошанам петь, но искусственного запаха патриархийного ладана старец не любил. Пономаркой при батюшке ведала м. Нектария, в схиме Наталия, ровесница о. Тавриона, поступившая в монастырь после войны. Кадило разжигали, положив скруток ниток от огарков в простой древесный уголь. Химический уголь был мало распространен, и приходилось всю службу поддувать кадило. Иногда эта работа требовала значительных усилий, когда уголь отсыревал или когда в небольших храмах при значительном количестве народа и свечей не хватало воздуха.
Окончив проскомидию, о. Таврион начинал общую исповедь. Начальные молитвы последования к Таинству читались на клиросе, затем батюшка читал молитвы и произносил проповедь о покаянии. В этой проповеди повторялись одни и те же мысли, образы, примеры, но удивительно глубоко она касалась сердец слушающих. Всегда были плачущие и воздыхающие о своих грехах. Живые примеры евангельских грешников (блудница у ног Христа, разбойник на кресте, мытарь) вставали перед духовным взором кающихся. Основное, что стремился донести старец до сознания исповедников, это то, что Бог смотрит на сердце человека. Там, в глубине его, совершается покаяние. Предостерегал от удовлетворенности формальным исполнением молитвенного правила, поста. Исповедь, по существу, была общей. Ежедневно причащались почти все паломники (в летние месяцы — до 150—200 человек) и некоторые монашествующие. Частная исповедь, если таковая требовалась, бывала на приеме у батюшки.
Начиналось чтение часов, и люди поочередно подходили под разрешительную молитву. Иногда кто-нибудь просил о. Тавриона выслушать его, и просьба удовлетворялась. Бывали случаи громкого обличения старцем кого-либо из подходивших. У батюшки была привычка в этом случае постукивать указательным пальцем по лбу слушающего, как бы стараясь донести до ума полезное слово.
По окончании часов начиналась божественная Литургия. Главная служба Церкви была для о. Тавриона делом его жизни.
Получив в 30-х годах благословение архиепископа Павлина (Крошечкина), своего духовного отца, на ежедневное совершение Евхаристии, о. Таврион соблюл это правило до конца дней своих. При самых сложных обстоятельствах жизни он изыскивал возможность не отступить от этого благословения. По его рассказам, в условиях ссылки в Казахстане он имел потаенный престол, антиминс и сосуды для литургического священнодействия и рано утром, до работы, всегда служил. Он чувствовал потребность в ежедневном причащении и даже во время болезней, когда не мог служить в храме, приобщался дома запасными Дарами.
Литургия служилась всегда очень торжественно. В храме зажигались светильники, отверзались Царские врата. Обычно в Пустыньке старец служил без дьякона, хотя были периоды, когда там стажировались, будучи дьяконами, о. Мелетий, о. Алексий, о. Петр. Ектеньи и возгласы о. Таврион произносил бодро речитативом, не затягивая, без каких-либо голосовых модуляций. По мирной ектенье на первом антифоне псалом пелся полностью. На малом входе, при пении «Приидите, поклонимся», батюшка низко кланялся, держа Евангелие. От престола во время службы почти не отходил.
По прочтении Евангелия выходил на проповедь с малым требным Евангелием в руках и становился на левой стороне амвона, немного развернувшись влево. Слово произносилось обычно на те новозаветные тексты, которые читались в тот день. Говорил проповедь с закрытыми глазами. Специальной подготовки к проповеди не было, но часто накануне о. Таврион прочитывал дневное Евангелие и Апостол. Он очень почитал свт. Иоанна Златоуста и нередко читал его толкования на Священное писание. Проповедь слушалась с большим вниманием. Это было живое одухотворенное слово. Евангельская тема раскрывалась в свете вопросов сегодняшнего дня, и поэтому безразличных не было. Как жить христианину в обществе, провозглашающем безбожие? Что главное в духовной жизни? Как должна Церковь являть современному миру Христа? — Эти вопросы всегда были на повестке дня. И везде красной нитью — тема литургического возрождения, участия в божественной Евхаристии.
Интерес к проповедям старца был велик. Редко где в то время так открыто и смело говорили. Годы тюрем и ссылок не сломили о. Тавриона, а всегдашняя готовность пострадать за Христа делала его бесстрашным свидетелем. Вместе с тем он был ответственен в словах, осторожен в выражениях. Для церковной интеллигенции, хорошо понимавшей эзопов язык, проповеди батюшки были ярким примером противостояния безбожной идеологии. Проповеди записывались некоторыми от руки скорописью, а с появлением портативных магнитофонов — и на пленку. На последнее изобретение, правда, косо поглядывали монахини, не обходилось без искушений. Я также начал записывать проповеди на магнитофон, установив его в ризнице и выведя микрофон на солею. К сожалению, и записывающая техника, и пленка были невысокого качества, отсюда — и недостатки этой работы. В дальнейшем о. Алексий (Рискин), служа в Пустыньке дьяконом, сделал записи проповедей почти всего богослужебного года.
Как было уже указано, редко в какой проповеди не звучала тема таинства Тела и Крови Христовых. О. Таврион готовил молящихся к самому важному моменту Литургии, призывал к тому, чтобы вся наша жизнь стала Евхаристией (благодарением) за этот бесценный дар Господа. И дальше служба проходила в ожидании должного свершения чуда. На сугубой ектенье батюшка добавлял прошения о болящих, о нуждающихся в особой молитве, о тех, о ком некому помолиться. Длинного перечня имен не было.
Перед пением «Верую» о. Таврион обращался к народу: «Поем всею церковью». Этот же призыв звучал и перед «Отче наш». Народ пел. В эти моменты особенно чувствовалась соборность церковной молитвы. После «Верую» правый клирос сходил в центр храма перед амвоном, и евхаристический канон пелся здесь. Эта традиция сохранилась по настоящее время. Так как пелась обычно одна и та же «Милость мира», то многие молящиеся подпевали. На «Верую» в алтаре зажигались дополнительные светильники и свечи. К престолу были приставлены на тумбах канделябры, на каждый ставились по пять парафиновых свечей, и они горели до отпуста. О. Таврион имел право служения с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш», поэтому главные моменты службы были видны верующим, особенно в Преображенском храме, где алтарь находится на возвышении. Призывно звучал возглас: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое Возношение в мире приносити».
Помнится замечание, сделанное старцем одному дьякону, у которого этот возглас получался вялым. Батюшка пояснил, что в церкви внешние формы, действия, возглашения должны отражать смысл совершающегося. Поэтому облик священнослужителя, его походка, голос, жесты имеют большое значение. Он предстоятель и от лица народа Божьего возносит молитвы Господу. Возгласы «Горе имеим сердца» и «Благодарим Господа» произносились о. Таврионом лицом к народу.
Ценивший и стяжавший молитву, старец в эти моменты полностью жил ею. «Тайные» молитвы произносились вполголоса, внимание ни на что не отвлекалось.
Благоговение и молитва исключали всякую суету, разговоры. Летом приезжее духовенство сослужило старцу, и вся служба после начальных взаимных приветствий проходила в тишине. Та же строгость — и на келейном правиле. Однажды, читая вечерние молитвы, я потер одной ногой другую, и о. Таврион, заметивший это, удивленно посмотрел, остановил чтение и недоуменно спросил, как во время молитвы такое возможно.
По просительной ектение и пении «Отче наш» наступал момент причащения священнослужителей. Зная о святой жизни старца и почитая его праведником, я часто, с сокрушением о своем непотребстве, внимал словам, произносимым о. Таврионом перед причащением, когда он молился о «недостойнейшем архимандрите Таврионе». Это формула, которую произносит каждый священник перед принятием Св. Тайн, но здесь чувствовалась глубина личного покаяния.
На полной Литургии причащался обычно весь храм, на Преждеосвященной допускались только болящие. Когда причастников было очень много, то половина частиц Агнца оставалась на дискосе, чтобы не переполнять Чашу. По мере потребления причастниками Даров они добавлялись в Потир. Несмотря на все меры предосторожности, изредка случались искушения. На плат попадала из неплотно закрытых уст причастника крупица Св. Тайн, и батюшка благословлял быстро ее потребить и строго взыскивал за случившееся.
По заамвонной молитве о. Таврион раздавал антидор тем, кто не причащался. После отпуста в краткой проповеди приветствовались причастники и непременно указывалось на ту радость, ту благодать, которых Господь их сподобил. Сам Христос в твоем сердце, ты имеешь великое дерзновение просить Его обо всем, о себе и близких, здоровье и нуждах. Господь неложен — просимое получишь, но храни дорогого Гостя, не пускай в сердце то, что неприятно Ему, — об этом говорил старец. Во время целования креста, который полагался в центре на аналое, читались благодарственные молитвы, а батюшка потреблял Св. Дары.
Кроме упомянутого обилия света, о. Таврион любил цветы и украшал ими храм и алтарь. Везде у иконостаса стояли вазы с живыми цветами, обильно украшалась ими праздничная икона и престол. Они менялись в зависимости от сезона: в зимнее время цветы были в горшках, летом, начиная от сирени и кончая астрами, все многообразие цветов украшало храм. На Троицу приносились березки, и пол устилался слоем свежескошенной травы. Ею же набивалась подушка, служившая подставкой под Цветную триодь, по которой о. Таврион читал коленопреклонные молитвы. Под Благовещение в ящике проращивали пшеницу и на праздник молодые зеленые всходы ставили под икону Божией Матери Феодоровской на солее храма преп. Иоанна Лествичника. В палисаднике, под окнами кельи старца, весной высаживались разные цветы.
По окончании литургии никаких заказных молебнов, панихид, акафистов не служилось. О. Таврион постоянно подчеркивал, что полнота богообщения осуществилась в таинстве Тела и Крови Христовых, и дополнительная потребность в частной требе свидетельствует о непонимании смысла Евхаристии. Таким образом, утренняя служба заканчивалась около 8-ми часов, и после трапезы начиналась трудовая жизнь монастыря.
В хозяйственном отношении обитель была разделена на две части — собственно монастырь и «хозяйство» о. Тавриона. Монашествующие имели огороды, скотинку, маленькую пасеку. Сажали картошку, зерно, заготавливали сено. По праздникам на монастырской кухне готовился обед, и после службы бывала общая сестринская трапеза, на которую приглашался и батюшка. Сестры несли послушание на клиросе, отвечали за чистоту храмов, порядок в ризнице. Земледельческие труды сестер о. Таврион не одобрял, считая, что в условиях материальной обеспеченности монастыря все усилия насельниц должны быть направлены на молитву и служение паломникам. В проповедях он указывал на духовную ответственность за каждую жертвуемую копейку, на то, что современное монашество должно явить собою истинный лик Христа, сказавшего: Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих
(Мф 20: 28).
Паломники, приезжавшие со всех сторон большой страны, нуждались прежде всего в утешении. Для большинства такая поездка — это светлый лучик в их скорбной и многомятежной жизни, то время, которым потом жили многие месяцы и годы.
Их пребывание в монастыре не должно было остаться бесплодным. Поэтому так много времени и сил отдавал о. Таврион приему паломников. Думается, что эти уроки требуют усвоения многими современными монастырями.
«Хозяйство» о. Тавриона — это постоянное строительство, ремонт, приспособление помещений для нужд приезжающих.
Какое-либо значительное жилищное строительство в то время было невозможно, это свидетельствовало бы о росте обители.
Поэтому приходилось использовать уже имеющиеся здания. В первую очередь внимание старца было обращено на чердаки. В старых каменных монастырских корпусах они были обширны, и все это пространство приспосабливалось для устройства гостиниц. Построены были также сараи, где нижние этажи действительно служили складскими помещениями, а верхние — в качестве больших общих келий. Другие здания понемногу обрастали пристройками, верандами, где также размещались паломники. И тем не менее в летние месяцы, особенно на праздник Преображения, места не хватало. Люди устраивались на ночь на сеновале, в храме.
О. Таврион не только вникал во все это строительство, но и непосредственно руководил им. Он указывал, что и как делать, распределял рабочую силу, снабжал материалами. Летом довольно часто сам отправлялся за покупками в Ригу или Елгаву.
Мне приходилось сопровождать его в этих поездках. Из Елгавы вызывалось грузовое такси, и о. Таврион в кабине, а мы, двое помощников, в кузове выезжали после службы на базы и в магазины. Старец для этого случая переодевался в гражданский костюм, длинные волосы прятал под шляпой. Но заметно это батюшку не изменяло. Почти все — продавцы, грузчики, шоферы — узнавали в нем священника. В магазинах о. Таврион сам выбирал товар и расплачивался за него. Обычно покупалось все оптом: кровати, матрацы, мебель, тазы, краска, строительные материалы и многое другое. В Риге батюшка заезжал в комиссионный магазин, где приобреталось что-то для храма: подсвечники, канделябры, рамы от картин, которые приспосабливались под киоты для икон, иногда и сами картины.
Старец обладал художественным даром. Он рассказывал, что с детства любил рисовать. Бумагу специально для этих цепей ему не давали, и он использовал, что попадется под руку. Однажды разукрасил крышки и днища новых бочек, за что был наказан. Его способности были замечены в Глинской пустыни, где он и получил начальное обучение в иконописной мастерской. Эти же способности пригодились потом в лагерях и ссылках. Меня заинтересовало, писал ли он там известных вождей? На мой вопрос батюшка только улыбнулся.
Художественные работы о. Тавриона и сегодня можно видеть в Пустыньке. Им писались образы Воскресшего Христа, Богородицы, композиция Рождества. Они исполнены в живописной манере с глубоким чувством благоговения и молитвы.
Все работы от натягивания холста на подрамник до установки образа в храме батюшка производил сам. Трудился он обычно по вечерам на кухне. За образец бралась репродукция какой-нибудь картины, но сюжет немного изменялся.
На Рождество Христово устраивался «вертеп». На круглом щите были написаны Богоматерь, Младенец в яслях и праведный Иосиф, отдельно из фанеры вырезаны ангелы, волхвы и пастухи. Вся композиция устанавливалась в левом крыле зимнего храма среди ёлочек. По окружности щита укреплялись электрические гирлянды разноцветных лампочек. Вспоминая те времена, м. Афанасия в простоте сердца сказала: «Да, чувствовали мы тогда небо на земле! Если Рождество, то мы в вертепе со Христом, если Пасха, то мы воскресаем с Ним». Атмосфера праздников, конечно, непередаваема. Рождество приходилось всегда на зимние каникулы, которые я проводил в Пустыньке. С нового года начиналась подготовка к празднику. Убирался храм, чистились подсвечники, кадила, утварь. Богослужебные сосуды: чашу, дискос, тарелицы о. Таврион мыл сам, воду сливали на кладбище. Устанавливался «вертеп», привозили ёлочки в храм. Одну ёлочку ставили в приемной комнате, она украшалась игрушками и блестками. Храм преображался от новых белых салфеток на аналоях, покровов престола и жертвенника. Часто к Рождеству шилось и новое священническое облачение. В сочельник готовился праздничный стол, заранее оповещались приглашенные из паломников и духовных чад. Всем монашествующим разносились от старца подарки.
Это были гостинцы: шоколад, консервы, бальзам, мед, фрукты. Сами сестры, в первую очередь клиросные, приходили на 2—3-й день к батюшке славить Христа. Служба Рождества совершалась ночью и часам к 4—5 оканчивалась. На разговины в покои старца приглашались 20—25 человек. Во главе стола сидел батюшка, очень радостный.
Указанное строительство велось так, чтобы не привлечь внимания, однако власти были осведомлены, что монастырь живет очень активно, и иногда устраивали различные проверки и комиссии. Приезжала милиция с проверкой паспортного режима. По законам того времени проживание в монастыре более трех дней требовало временной прописки. Документы у приезжавших проверяла м. Параскева, но конечно же, никого не прописывали, хотя многие жили неделями и даже месяцами. Приезжали всевозможные инспекторы по земле, архитектуре, строительству, сигнализации, противопожарной безопасности и т.п. Эти незваные гости после формального выполнения своих обязанностей приглашались на обед. Их угощали ястием и питием, давали в дорогу и «на дорожку», и обычно таким образом устранялись какие-то сложности. Иногда «гости» злоупотребляли своим положением, и о. Таврион жаловался на слишком частые их визиты к «кормушке».
Отношение к властям у старца было осторожное. У него, прошедшего горнило лагерей и ссылок, познавшего систему в ее страшной сущности, иллюзий относительно коммунизма «с человеческим лицом» не было. Он до конца жизни был готов к новым гонениям и тюрьмам. Характерен такой эпизод. Году в 1975—1976 расследовалось одно финансовое дело, и подозреваемая дала какие-то показания о причастности о. Тавриона. Он был вызван в Москву для дачи показаний. Перед поездкой привел все дела в порядок и попрощался с монахинями, как могущий не вернуться. Но, слава Богу, обошлось.
Опасаться в те времена было чего. Власти на любого верующего, тем более церковнослужителя, смотрели как на потенциально нелояльного строю гражданина. Священник мог запросто быть обвинен в религиозной пропаганде, что каралось законом. Определенные органы старались шантажом или подкупом склонить священнослужителей к сотрудничеству, либо, если это не удавалось, тотально контролировали деятельность. Рычагов давления у властей хватало: органы милиции, уполномоченный, часто и правящий архиерей. Пустынька для этих служб была объектом значительным. Сюда стекались верующие со всей страны, среди них было много интеллигенции. Кто только здесь не перебывал в те годы: профессора вузов, научные сотрудники институтов, художники, литераторы, врачи, учителя и т.д. (помнится, одну зиму истопником трудился физик-ядерщик с научной степенью). Уже этого достаточно, чтобы быть под пристальным вниманием. А ведь в Пустыньке бывали и известные диссиденты, журналисты, иностранцы. Как осуществлялся контроль? Присылались кадровые сотрудники, вероятно, имелись осведомители и среди насельниц.
Требовалась осторожность и в отношениях с церковными властями. Зная, что путь к высокому иерархическому положению часто был сопряжен с условием какого-либо сотрудничества в органах (о. Таврион с горечью отмечал, что почти никто из архиереев не чист от этой скверны), батюшка стремился придать этим отношениям по возможности более официальный характер. С правящим архиепископом Леонидом о. Таврион был знаком еще по Ярославской епархии, где оба служили в начале 60-х годов. После смерти в 1968 году духовника Пустыньки схиархимандрита Космы (Смирнова) владыка Леонид исходатайствовал у патриарха Алексия перевод старца на место почившего. Владыка был человеком мудрым и крайне осторожным. Он видел, что церковь в Латвии находится в более благоприятном положении, чем в России, но опасался, как бы о. Таврион своей деятельностью не привлек усиленного внимания властей. Исходя из этого, он делал замечания и распоряжения относительно служения старца. По словам батюшки, однажды ему пришлось заявить об уходе за штат, если этот контроль не будет ограничен пределами разумного. Одной из тревог архиеп. Леонида было пребывание детей в обители.
Проживание несовершеннолетних в монастыре без родителей могло быть расценено властями, как незаконная деятельность церкви по религиозному воспитанию и обучению. Поэтому владыка через о. Тавриона запретил мне появляться в Пустыньке. В общей массе детей, гостивших в монастыре с родителями, я был не заметен и по благословению батюшки лишь прятался во время приезда архиерея. Однажды владыка прибыл без предупреждения в неурочное время и из машины сразу же вошел в покои старца. Деваться мне было некуда, и я залез под стол и, как только появилась возможность, тихонечко удалился.
Вл. Леонид часто приезжал в Пустыньку, привозил сюда своих гостей, что создавало дополнительные хлопоты. Нарушался устоявшийся порядок дня, готовился обед, подарки. Но батюшку отличало гостеприимство. По его благословению каждый приезжавший должен был быть накормлен, устроен в келье. Каждый, если того желал, бывал принят на беседу со старцем. Среди личных гостей о. Тавриона были люди, знавшие его давно, послужившие ему в годы лишений, собратья и сомолитвенники. Ежегодно приезжал из Перми архимандрит Иоанн (Чувизгайлов). С ним батюшка был связан духовными узами, у него он исповедовался и соборовался. О. Иоанн трапезовал в покоях о. Тавриона, и оба старца подолгу общались.
Приезжали в Пустыньку известные своей духовной жизнью митр. Зиновий (Мажуга) (поступивший в Глинскую обитель одновременно с батюшкой), архим. Серафим (Тяпочкин), архим. Моисей из Уфы и другие. Большая дружба связывала старца с схиархим. Андроником (Лукашем), тоже глинским монахом и учеником архиеп. Павлина (Крошечкина). Последние годы своей жизни провел в Пустыньке еще один глинский постриженик, иеродьякон Феопемт. Он был болен, в храм не ходил, и о. Таврион периодически причащал его в келье. Меня поражало сходство их духовного настроя. Лежа на одре болезни, о. Феопемт все время пел громким голосом церковные песнопения глинских распевов. Иногда батюшка навещал его и для беседы. Вспоминались монастыри, старцы, события 50—60-летней давности. Однажды разговор коснулся Глинской пустыни конца 50-х годов. О. Феопемт начал называть пострижеников тех лет, на что о. Таврион заметил: «Это уже не монахи, это шантрапа». Думается, в этом высказывании была не только реакция на события периода настоятельства старца в Глинской пустыни, но и характеристика нового поколения людей, шедших в монастырь, но взращенных уже советской властью.
Глинская пустынь, духовная родина батюшки, всегда вызывала у него самые светлые воспоминания. Монах по призванию, он с отрочества впитал устав обители, церковные напевы, дух тамошней иноческой жизни. Молитвенным напоминанием о тех годах служил висевший в келье старца чудотворный образ Глинского монастыря «Спас Нерукотворный». Но на дворе были другие годы и совершенно другая жизнь. О. Таврион понимал это и стремился в новых условиях раскрыть красоту и ответственность своего монашеского и священнического служения. Батюшка напоминал, что священник и монах — это крестоносец, предостерегал от ухода с этого пути крестоношения. Внешние обстоятельства не могут служить препятствием для молитвы и проповеди. Любимым выражением старца были слова апостола Павла: Любящим Бога все содействует ко благу
(Рим 8: 28). Часто в проповедях о. Таврион обличал монашество и духовенство в бездеятельности и нерадении о данной благодати.
Другой отличительной чертой старца была его щедродательность. Этому способствовали и материальные возможности.
Многочисленные паломники, приезжая в монастырь, заказывали различные поминовения, сорокоусты, годовые, вечные.
Часто какая-нибудь богомолка привозила поминовения со всей деревни, поселка. Большие суммы присылались и по почте.
Канцелярскую работу по этим заказам о. Тавриону помогали вести доверенные лица из духовных чад. (Хочется здесь упомянуть Валентину Васильевну Пучкову (ин. Валентина), человека безупречной честности и большой внутренней культуры). Необходимо было принять деньги, оформить квитанцию, внести имена в синодики, ответить письмом на денежные переводы. Мне иногда поручали заклеивать конверты и писать на них обратный адрес. Батюшка подписывал оформленные квитанции, некоторым корреспондентам отвечал более подробно.
В каждое письмо вкладывалась иконочка или открытка. В Рижском монастыре со времен войны сохранился запас литографически исполненных репродукций различных иконок, и игуменья Магдалина (Жегалова) снабдила ими старца.
Изображений было десятка два: Спаситель, иконы Богородицы, святых, праздников. Чем руководствовался о. Таврион, вкладывая ту или иную иконочку в конверт, мне неизвестно, но многими было замечено, что выбор значимый. Если в ответ на просьбу молитв о болящем присылалось изображение Распятия или «Страстной» Богородицы, то готовься к скорби, и наоборот, радостной весточка была с иконочками вмч. Пантелеймона, свт. Николая. Часто посылались открытки с видами храмов, монастырей, зданий Старой Риги. В книжных магазинах я всегда присматривал что-то подходящее, привозил батюшке, и если он одобрял, то приобреталось уже большое количество.
Поступавшие деньги шли в первую очередь на нужды монастыря, на работы по его благоустройству. Значительные суммы отправлялись владыке, игуменье. Нередко благотворил о. Таврион неимущим паломникам. Поиздержится иной, так что и на билет обратный не хватает, старец провидит нуждающегося и спросит: «А на дорожку-то есть?» И даст как раз столько, сколько необходимо. Были просители и иного порядка, из Елгавы приезжали пьющие мужички, но и те, по увещевании, получали какое-то подаяние. Щедро расплачивался батюшка с шоферами такси, с рабочими, трудившимися по строительству.
Помогал о. Таврион и нашей семье, особенно когда мать получила инвалидность и не смогла работать. Сам же старец сохранял монашескую нестяжательность. О себе свидетельствовал, что не заботился о материальном, но никогда не был в большом лишении, даже в годы лихолетья. Поучая одного юношу о важности пастырского служения, подчеркивал: «Служи Господу, и Он даст тебе потребное».
В автобиографии, датированной 1956 годом, о. Таврион указывает, что наряду с художественным образованием в Глинской пустыни он проходил там и миссионерские курсы. Поступив в монастырь, он был определен послушником к иеромонаху Авелю, человеку образованному, бывшему миссионеру, который привил батюшке любовь к чтению. Поэтому, несмотря на чрезмерную загруженность, которую имел старец в Пустыньке, он ежедневно уделял время книге. Это мог быть любимый им Златоуст, мог быть духовный журнал «Странник», «Христианское чтение», «Труды Киевской Духовной Академии» с заинтересовавшей о. Тавриона статьей. Библиотека у него была большая, собранная еще в 20-х годах, и во время его заключений и ссылок сохраненная духовными чадами. По рассказам старца, эти книги из закрытых семинарий, монастырей, церковных библиотек выдавались служащим некоторых советских учреждений в качестве дров, и таким образом что-то сохранилось от полного уничтожения. Это была богослужебная, богословская литература, много разрозненной периодики, творения св. отцов, жития святых, книги по истории церкви. В середине 70-х годов гостившие у батюшки духовные чада частично систематизировали библиотеку, но каталога не составили. Фонды понемногу пополнялись, кто-то дарил книги, иногда о. Таврион покупал их у частных лиц. Приобретенное собрание Житий святых свт. Димитрия Ростовского в красивом, золотого тиснения переплете (12 томов и 2 дополнительных), изданное в Синодальной типографии, он подарил нашей семье с благословением читать постоянно. Были в его библиотеке и светские авторы XIX века: Достоевский, Лесков, Мельников-Печерский. С большим уважением отзывался батюшка о Ф. Достоевском, рекомендовал читать «Братьев Карамазовых», любил Н. Гоголя. Выписывал о. Таврион и советские газеты и журналы: «Огонёк», «Наука и религия», «За рубежом», но не читал, в лучшем случае просматривал. Из Москвы иногда привозили самиздатовскую и «тамиздатовскую» литературу, как религиозную, так и светскую. Несмотря на мелкий шрифт, старец прочитал «Архипелаг ГУЛаг» А. Солженицына, высоко отозвался о творчестве писателя, подтвердил правдивость изложения. Имел о. Таврион намерение самому написать о тех страшных годах и о всей своей жизни, но все откладывал и не осуществил задуманного. Осталось лишь батюшкино описание чудесного избавления от смерти, случившегося с ним в юностиСм. «Православная община» №1, 1991.
Отчасти интересовался старец и политикой, но не вообще, а вопросами, связанными с жизнью нашей страны. Поэтому наряду с религиозными передачами, он слушал иногда новости радиостанций «Би-Би-Си», «Свобода», «Голос Америки». О. Таврион отмечал, что верующему человеку необходимо быть образованным. По мысли старца, христианин всегда должен быть свидетелем о Христе, и свидетельство будет успешным и полноценным, если оно соответствует интеллектуальному и культурному уровню современного человека. В жизни Церкви, как и в жизни каждого ее члена, не должно быть остановки — постоянное развитие, движение вперед. Батюшка предостерегал от опасности закостенения во внешних формах. «Мы живем не в XVI—XVII веках», — указывал он. Церковь должна быть во всеоружии перед лицом воинствующего атеизма, материализма, современного язычества.Своим духовным чадам, имеющим детей, благословлял позаботиться о полноценном образовании последних и в то же время противостоять тому духу безбожия, которым были пропитаны учебные дисциплины. В вопросе духовного образования (духовная семинария) на первое место ставил именно «образование» в себе Христа. Поступающий по воле Божьей, согласующий жизнь свою со Словом Божьим — таков должен быть пастырь и христианин. Постоянно поучаясь в Законе Господнем, о. Таврион всех призывал ежедневно читать Священное писание. По его словам, если мы этого не выполняем, то нам нечем будет оправдаться перед Богом. Если нет Евангелия, надо переписать его, — ценнее будет. Послания апостола Павла называл духовной академией для каждого. Батюшка любил перечитывать главы Евангелия от Иоанна, повествующие о беседе Господа с учениками на Тайной вечере. Много помнил наизусть и на проповедях цитировал отрывки.
Пустынька — монастырь, который по своему названию должен бы представлять отшельнический скит, но при старце массы паломников меняли это представление. Летом в отпуск приезжали духовные чада, гостило духовенство с семьями, было много детей. На летние каникулы батюшка благословлял мать свозить нас в какой-нибудь известный монастырь. Так мы побывали в Троице-Сергиевой Лавре, Почаеве, в Киеве, но тянуло в родную Пустыньку. О. Таврион в проповедях замечал: «Нет у нас святынь, мощей, чудотворных икон, а вот люди приезжают и получают большую радость». Молитвенная жизнь обители, общение со старцем, ежедневное Причащение — к этому стремились души верующих. В письме к ин. Марии (Логиновой) от 20.12.70 батюшка писал об этом: «Здесь у меня отдыха и покоя нет, всегда люди, да службы ежедневно, которые совершаю всегда и усердно, а это требует много сил». Богослужения совершались утром и вечером, но уставно они были приспособлены более к паломникам, чем к насельницам. Вечером совершались вечерня и утреня. Кафизма читалась одна, канон на 6, иногда вместо кафизмы пелся акафист Спасителю или Богородице. Утром во время исповеди читался акафист, чаще всего «Всемогущему Богу в нашествии печали» свт. Тихона Задонского. Вечером, заканчивая службу, после первого часа батюшка произносил проповедь, и неизменно звучал призыв сугубо помолиться за живых и усопших. Народ пел «Отче наш», «Со святыми упокой». Завершалась молитва словами старца: «Итак, заканчивая наше вечернее богослужение, мы поручаем друг друга, самих себя, всех наших дорогих больных, страдальцев, тружеников, всех жаждущих Божьего милосердия, всех тех, которые просят нашего молитвенного участия, всех тех, которые пишут нам как о живых, так и о усопших, всех их мы поручаем усердным и неустанным молитвам Божией Матери, Которая, как о нас, так и о всем мире молится день и ночь. Итак, Усердной и Неустанной нашей Молитвеннице всею церковью поем Ей молитву «Под Твою милость».
С особым благоговением относился о. Таврион к Пресвятой Богородице, и вся его жизнь прошла под Ее небесным покровом.
Родился он на празднование иконы Богородицы «Смоленская», в Глинскую пустынь пришел в праздник обители на Рождество Божьей Матери, и 40-й день по его кончине пришелся на этот же праздник. Одной молодой послушнице, сильно скорбящей, сказал как-то: «Молись Пречистой Деве, я всегда молился, и Она не оставляла меня». Очень почитал старец свт. Тихона Задонского, имя которого дано было ему при крещении, преп. Серафима Саровского, проводя иногда в проповедях параллели между Пустынькой преподобного и Пустынькой Рижской. Торжественно отмечал батюшка дни памяти апостола Иоанна Богослова, свт. Иоанна Златоуста. Вера и целомудрие ветхозаветных праведников Авраама и Иосифа Прекрасного часто служили темами проповедей старца.
Господь крепость людям Своим даст
(Пс 28:11), — эти слова в полной мере применимы к о. Тавриону. Крепость — в первую очередь как благодатную силу, но и физически батюшка был наделен крепким здоровьем. До конца жизни имел хорошее зрение, слух, острое обоняние, не знал головной боли. Но годы лагерей и ссылок постепенно давали о себе знать. Еще там, не имея возможности лечиться, о. Таврион потерял почти все зубы, там от тяжелого труда заработал грыжу и до хирургической операции, проведенной по рекомендации вл. Леонида в 1973(1974) году, носил бандаж. В лагере перенес сильнейшее отравление рыбными консервами. В эти же годы появились стенокардия и гипертония. Пользовал батюшку в этих недугах архиеп. Леонид, имевший медицинское образование. Все болезни старец переносил без жалоб, исправно принимал прописанные лекарства. Но о здоровье заботился лишь в меру необходимости, чтобы недуги не лишили его возможности служить Богу и людям. Наряду с предписанными медициной, были у батюшки и свои, лагерной жизнью выработанные методы лечения. Все болезни органов пищеварения он лечил строгим постом, при простуде растирался спиртом или тройным одеколоном. Универсальным средством во многих немощах считал горячую ванну и еженедельно принимал ее. Бытовые условия жизни в Пустыньке были поначалу типично сельскими. Ванна стояла в кухне и разогревалась подставленными под днищем керосинками. Впоследствии в пристройке устроили ванную комнату и туалет.
Болезнь (рак желудка), сведшая о. Тавриона в могилу, начала проявляться Рождественским постом. Вначале сильных болей не было, лишь потеря аппетита, тошнота. Батюшка опасался, как бы не случилась рвота по потреблении Св. Даров, но Господь хранил. Он продолжал служить, но на Пасху уже не смог быть за праздничным столом. Последнюю службу в храме совершил на Троицу (2 июня 1978 г.). До дня блаженной кончины ежедневно причащался в келье, куда Св. Тайны приносил служивший в то время в Пустыньке о. Евгений (Румянцев). Болезнь в последней своей стадии переносилась тяжело, и старец говорил, что страдает, как на кресте. Конечно, ему оказывали медикаментозную терапию, но зачастую сильнодействующие лекарства лишь увеличивали мучения. Ставился вопрос об операции, однако болезнь была запущена, и сердце было слабым. Но по существу, о. Таврион сознательно выбрал болезнь как свое крестное шествие в Царство Небесное.
Ухаживать за собой во время болезни батюшка просил мою мать, но вл. Леонид почему-то не благословил, и сиделкой была назначена р.Б. Ксения из Перми. В последние недели недуга к старцу почти не допускали паломников и даже близких ему людей, хотя, как выяснилось по кончине, он желал видеть некоторых. Еще больше желали этого его духовные чада, надеясь получить последние наставления и благословение. Года за два до кончины о. Таврион начал прибавлять в весе, что было возрастным явлением, но батюшку это волновало, и он ограничил себя в пище. Болезнь истощила плоть, и посмертное облачение и положение во гроб, в которых я сподобился принимать участие, невольно навели на мысль о мощах старца.
Питался о. Таврион согласно церковному уставу, не неся какого-то особого постного подвига. Пищу готовили ему на летней кухне и, конечно, старались получше угостить батюшку. Паломники привозили разные деликатесные продукты, но старец был к ним равнодушен. Иногда он благословлял принести суп и кашу из паломнической кухни, изредка готовил сам. Рассказывал, что кулинарный опыт приобрел юношей, когда в период Первой мировой войны был призван в армию и, как несовершеннолетний, определен на кухню в обоз. (С удивлением о Промысле Божием батюшка отмечал, что служить ему тогда пришлось в Латвии под Ригой). Трапеза, таким образом, была самая простая. В будни после Литургии о. Таврион пил чай с легкими закусками, около полудня подавался обед, перед вечерней кружка чая и ужин после службы. Молочные продукты употреблял мало, рыбу ограничивал из-за костей. Любил овощные салаты с растительным маслом, борщи. Вина за столом не пил, но в чай добавлял в качестве лекарственного средства ложку Рижского бальзама. Чай заваривал сам прямо в кружке и пил его очень горячим и крепким.
Паломническая кухня была основана батюшкой и входила в круг его ежедневных забот. Первых паломников о. Таврион кормил сам на веранде своего домика, потом появились помощники — его духовные чада. Они и трудились на кухне все время служения старца в Пустыньке, поочередно неся это многотрудное послушание. (С большой теплотой вспоминаются р.Б. Клавдия, Антонина и др.). Батюшка часто заходил на кухню, благословлял пищу и трудящихся, интересовался, есть ли все необходимое. Иногда заглядывал во время трапезы, спрашивал паломников, сыты ли, хватает ли всего. Продукты присылались благодетелями старца со всей страны, покупался, в основном, хлеб. Кормили сытно тремя блюдами три раза в день. Особым угощением летом был «батюшкин» квас. Этот напиток готовился по его рецепту и всем очень нравился.
Графины с квасом выставлялись на столике перед трапезной, и в любое время можно было его отведать. Кормили паломников согласно церковному уставу, отдельного постного стола не было, и ежедневно причащающихся не обязывали к сугубому воздержанию в пище. Каждому была предоставлена свобода решить вопрос своего говения лично. Большая нагрузка ложилась на кухню в летние месяцы, особенно на праздник Преображения Господня. Хозяйки трудились от зари до зари, чтобы никто не ушел ненакормленным.
Но главным в жизни Пустыньки того времени была Духовная Трапеза. О. Таврион призывал паломников не оставаться безучастными к словам Господа: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. Пейте из нее ВСЕ: ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета
(Мф 26: 26–27). И люди приезжали из далеких мест именно за этим. В обители царила атмосфера раннехристианской общины. Богомольцы, жившие в монастыре, вместе молились, трудились, общались между собой и со старцем. Из Пустыньки уезжали утешенные, обновленные, с желанием приехать сюда снова.
За годы своей исповеднической и подвижнической жизни батюшка стяжал благодатные дары прозорливости и чудотворения, но скрывал их. Однако светильника под спудом не утаишь (Мф 5: 15). На приеме старец то незнакомого человека по имени назовет, то вопросом в самую глубокую тайну души проникнет, то предостережет от какого-нибудь опасного шага. А сколько исцелений совершалось по молитвам о. Тавриона на таинстве Елеосвящения! Соборовал батюшка каждое воскресенье перед Литургией. Сам раздавал каждому горящую свечу, сам читал канон на последовании. Во время помазывания весь народ пел: «Услыши нас, Господи, услыши нас, Владыко, услыши нас, Святый». Все, с немощами, болезнями телесными и духовными, усердно молились Богу. Часто в Пустыньку приезжали одержимые и во время служб кричали подобно евангельским бесноватым: «Знаю тебя, Таврион, ох, тяжко, ухожу, ухожу!» Имеются многочисленные свидетельства о посмертных чудесах исцелений и молитвенного заступничества старца. Уверен, что когда будет поставлен вопрос о канонизации архимандрита Тавриона, в изобилии обнаружатся документы и материалы, подтверждающие его святость.
С большой любовью и состраданием относился батюшка к страждущим людям. В монастыре подолгу проживала душевнобольная р.Б. Лидия, многих смущала своим поведением (однажды попортила священнические ризы, вырезав из них кресты). Как-то в сердцах я сказал ей, что ее место в психбольнице. Лидия пожаловалась старцу, и он строго отчитал меня. В это же время в Пустыньке жила юродивая Евгения. Ходила в любую погоду босиком, таскала какие-то узлы, могла отругать любого, но за внешним безумием скрывалась духовная личность, которую о. Таврион видел и ценил. Любовью к старцу горели и сердца его духовных чад. С момента знакомства батюшка стал для меня близким и родным человеком, которому я полностью доверял. Впоследствии, встречаясь с духовными лицами, я подмечал в них черты, особенности, которые мне не нравились. В отношении о. Тавриона такого никогда не было. Я считал, что недостатков у него нет, что действия его правильны, а его служение — образец для всех. Я не сомневался в его благословениях, хотя они бывали иногда вопреки моим желаниям. Руководил батюшка мною мягко, без давления. А ведь как духовный сын я совсем не подарок был старцу. Меня тянуло к детским забавам, я мог без спроса пойти на речку, в лес и там задержаться. Бывал ленив и нерадив в послушаниях. Однажды даже напробовался со сверстниками вина допьяна. Со скорбью вспоминаю свое неразумие в те годы, долго чувствовал внутреннюю вину перед о. Таврионом. (Это чувство прошло после сна, в котором просил у батюшки прощения и получил его с отеческой любовью).
В последний год жизни старец стал более строг, часто обличал, предупреждал. В его облике и речи появилось что-то пророческое. Видимо, имел какие-то откровения о судьбах людей, церкви. Общеизвестно его предсказание о Пустыньке. Оно встречается в некоторых вариантах. (Я сам записывал его с батюшкиных слов, но записка пропала). Наиболее распространенная версия этого пророчества: «Будут овцы, будут ясли, да не будет чего ясти». Вначале мне не совсем понятен был смысл этих слов. Монастырь со смертью о. Тавриона материально не оскудевал, даже наоборот, разрастался и строениями, и численностью насельниц. По проторенной дорожке шли паломники, привлекаемые святостью места.
Ревностью отличались преемники старца в священнослужении. Но дух менялся. Ушла та уникальность Пустыньки, которая тесно связана с временем духовничества там батюшки.
До сих пор при входе в храм преп. Иоанна Лествичника висит в рамочке под стеклом листок с распорядком служб в монастыре. В конце подпись: «Духовник обители Архимандрит Таврион». Молитвенно предстательствует он за Пустыньку перед Престолом Божьим, как и старец схиархим. Косма, и епископы и монашествующие, погребенные на монастырском кладбище. Верится — слышит их молитвы Господь.