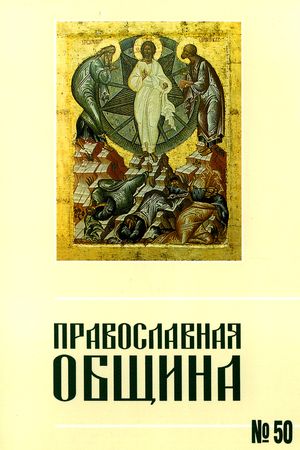Язык Церкви как дар Слова и плод Духа. Доклад на международной научно-богословской конференции «Язык Церкви»
К началу ХХ века большинство людей вновь открыли для себя, что Христианство уникально в своем возвещении, в своих корнях и устремлениях, в своем духе и смысле, и значит, в том языке, которым только оно и владеет. Давайте же попробуем прислушаться и приглядеться к этому языку — этому уникальному достоянию Церкви.
С одной стороны, всем понятны древние слова «Послания к Диогнету»: «Христиане не отличаются от прочих людей ни страною, ни языком… Они… не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других… Они во плоти, но живут не по плоти».
Поскольку христиане не борются «против плоти и крови» и мирно живут на земле «во плоти», то они не чураются и своего родного языка — языка, ничем не отличного от людей, их окружающих. Но они же не забывают, что, по словам Тертуллиана, высказанным им в трактате «О свидетельстве души», «у каждого народа свой язык, но материя языка всеобща». Вот тут-то, когда речь заходит о некоей общности, становится важно, что христиане живут не только «во плоти», но и «не по плоти».
Какое общение и какое единение несут в себе христиане? Это ясно из слов, например, кондака праздника Пятидесятницы: «Когда Ты, сойдя, языки смешал, тогда разделил народы, Всевышний, а когда огненные языки раздавал, — к соединению всех призвал: вот мы согласно и славим Всесвятого Духа».
Да, некая общность «материи языка» свойственна всем людям, даже если они стараются жить согласно лишь с «какой-либо частью посеянного в них Слова», по словам св. Иустина Философа (2-я апология), который продолжает свою дерзновенную мысль так: «Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников (т.е. не знавших Христа — свящ. Г.К.). Таковые между эллинами (т.е. язычниками! — свящ. Г.К.) — Сократ и Гераклит, и им подобные, а среди других народов — Авраам… и многие другие». Они христиане, ибо смогли в своей жизни увидеть и услышать голос Истины и голос разума. О них говорит далее тот же святой отец: «Все те писатели, посредством врожденного семени слова, могли видеть Истину, но телесно. Ибо иное дело семя и некое подобие чего-либо, данное по мере приемлемости, а иное — то самое, чего причастие и подобие даровано по Его (Слова) благодати».
К слову говоря, из этого своего учения св. Иустин делал радикальные выводы и, так сказать, в другую сторону. Он писал в 1-й апологии: «Если найдутся такие, которые не так живут, как учил Христос, те — не христиане, хотя и произносят языком учение Христа». Но знание божественного Логоса-Христа небезопасно, особенно если оно стремится к полноте, целостности и единству. Во 2-й апологии св. Иустин признается: «Нимало не удивительно то, что большей опасности подвергаются те, которые стараются жить согласно не (просто) с какой-либо частью посеянного в них Слова, но руководствуясь знанием и содержанием всего Слова, которое есть Христос».
Итак, если только истинные христиане живут в причастии всему Слову, которое есть Христос, то каков же их язык, порождаемый в них этим Словом? Каков язык Церкви как Тела Христова и каждого христианина как живого члена этого живого Тела? Этот вопрос по существу своему равнозначен вопросу: что есть собственно христианского в Христианстве?
Этим вопросом христиане задавались всегда, со дня Пятидесятницы. На него отвечал в тот день апостол Петр, как нам это передает книга Деяний. Отвечали на него и святые отцы — каждый немного по-своему — своим богословием и, значит, своим словом и делом. Задают себе этот вопрос и современные христиане. Например, недавно мы познакомились с рассуждениями на эту тему известного католического богослова Ханса Урса фон Бальтазара через его книжечку «Достойна веры лишь Любовь» (М., Истина и жизнь, 1997 г.). С первых страниц этой книги мы с радостью вновь узнаем, что язык Церкви — не только язык таинств, не язык «ряда случайных исторических истин», не один лишь язык чудес и пророчеств, не только язык звезд — «космического и всемирно-исторического пространства», или язык некоего «антропологического центра». Язык Церкви, таким образом, то, что Бог во Христе хочет сказать миру, человеку и человечеству. Но это то, что «не находит соответствующего масштаба ни в целом мире, ни в отдельном человеке». Язык Церкви говорит только о том «деле», которое совершает, творит Бог во Христе и в Его Церкви, и тем самым в человеке, человечестве и мире. И это «дело, которое Бог имеет к человеку и которое само истолковывает себя перед ним и ради него (а значит — в отношении к нему и в нем самом) — это дело по необходимости должно быть тео-логическим или, точнее, тео-прагматическим. Об этом деле сразу можно сказать, что оно достойно веры, лишь если понимать его как Любовь, подразумевая под этим собственно Божью Любовь, явление которой и есть явление Божьей Славы».
Язык Церкви, как мне уже однажды приходилось говорить об этом (в докладе, а потом статье «Современное богословие»), это ее богословие, понятое одновременно апофатически и катафатически, мистически и мистериально, как доксология, т.е. восхваление Бога и воздаяние Ему Его Славы, и как «христианское самопонимание». Но это такое христианское самопонимание (а тем самым — богословие), которое, по замечательной мысли Бальтазара, «не совершается ни через мудрое знание, превышающее религиозное знание мира, — провозглашением Бога (ad majorem gnosim rerum devinarum (к вящему познанию вещей божественных — ред.)), ни через человека, приватного или социального, приходящего к самому себе благодаря откровению и спасению (ad majorem hominis perfectionem et progressum generis humani (к вящему совершенству человека и развитию рода человеческого — ред.)), но единственно лишь через самопрославление Божественной Любви: ad majorem Divini Amoris Gloriam (к вящей Славе божественной Любви — ред.).
Как в связи с этим нам здесь не заметить, что лучше всего овладевают языком Церкви ее святые, и особенно мистики Любви, поскольку именно они более других и сами пламенели в своей жизни этой Любовью. Бальтазар пишет об этом так: «Любящие больше других знают о Боге, им и должно принадлежать богословие». Как это в духе св. апостола Иоанна Богослова, сказавшего: Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, ибо Бог есть Любовь
(1 Ин 4: 7–8).
Но знаменитый современный богослов продолжает свои размышления о самопрославляемой Божественной Любви и Славе. «В Ветхом Завете, — пишет он, — эта Слава (kabod) обнаруживается как присутствие царственной власти Яхве в Его союзе с людьми (а через это — и во всем мире), а в Новом Завете величественная Божья Слава истолковывает себя как нисхождение Божественной Любви во Христе «в пределы» смерти и тьмы. Это всему-внешнее, для мира и человека непредставимое (подлинная эсхато-логия), может быть воистину воспринято лишь как «совсем-иное»». То есть, как бы мы сказали, лишь как трансцендентное всему — при всей имманентности нам и нашему миру.
Итак, язык Церкви — это язык Логоса, необычного, «имеющего силу убеждать и побеждать», это язык Божьей Любви и Божьей Славы; это язык подлинного Христианства. В нем находит себя сама эта Любовь через Веру и Надежду как наша высшая методологическая точка отсчета. Но эта «искомая методологическая точка отсчета является одновременно подлинным богословским kairos (т.е. временем) нашего века: если подобная вещь его не тронет, то, думаю, — пишет Бальтазар, — вряд ли ему суждена встреча с подлинным Христианством в его первоначальной чистоте».
Это значит, что язык Церкви может остаться никому в наше время не понятным и, следовательно, не воспринятым. И Церкви следует об этом особо позаботиться, как это делал уже апостол Павел, говоривший в Первом послании к коринфянам (14: 13–15):
Говорящий на языке пусть молится и о даре истолкования. Ибо если я молюсь на языке, молится мой дух, а ум бездействует. Как тогда быть? Буду молиться духом, но также и умом; буду петь хвалу духом, но также и умом
.
Конечно, это еще большее отношение имеет к внешнему церковному свидетельству, к проповеди Церкви в нашем мире в наше время. Как писал другой знаменитый современный богослов — протопресвитер Иоанн Мейендорф: «Проповедуя Христианство, следует пользоваться современным и ясным языком, понятным не только образованным интеллектуалам, но и простым смертным. Задача богословия состоит в том, чтобы формулировать Истину убедительно и на доступном всем языке. Ибо Церковь должна заботиться о спасении всех, а не немногих избранных. Довести до понимания современников мысль святых отцов составляет содержание живого предания. Но достичь этого мы можем, только если сами хорошо понимаем святоотеческую мысль и умеем выразить ее не на языке Платона, а на языке, понятном в наше время».
Однако от вещей практических вернемся снова к созерцанию языка Церкви как дара Слова Божьего и плода Божьего Духа, но, наверное, можно сказать, и как плода Слова Божьего и дара Святого Духа.
Язык Церкви — это продолжение Пятидесятницы и мук рождения Царства Небесного в мире сем, это само рождение нового мира из материи мира сего, т.е. это освящение мира, жизни и человека, как и имени Божьего, в их синергии.
Язык Церкви — это язык языка Божьего, это энергия Богочеловечества, это единые для всех Дух и Смысл, это одна из Тайн Церкви и значит — Тайна ее единства, святости, кафоличности, соборности и апостоличности. В языке Церкви присутствует Тайна общения святых.
Язык Церкви — это молитва Церкви всех видов и язык ее богослужения. Это славословие Бога и благодарение Его — Евхаристия. Это всякое прошение Церкви, начиная со слов «да будет воля Твоя» и «да приидет Царствие Твое». Здесь же и забота о «хлебе насущном» и об экологическом равновесии в жизни мира. Здесь и забота об отпущении грехов и всякое покаяние. Здесь и забота об ограждении от заблуждения, от излишних искушений, от лукавства и зла.
В жизни Церкви язык имеет смысло- и формообразующее значение. Но он же вдохновляет каждого члена Церкви и делает возможным реализоваться в нем его словесно-личностному началу, которое уникально по своему предназначению.
Но язык Церкви не просто логичен, а прежде всего логистичен (от слова «логос»). Он не просто духовен или культурен, он богодухновенен, так же как не просто божественен, а богочеловечен.
Язык Церкви, как и голос Церкви, и слово Церкви, является носителями Духа Церкви, хотя и различным образом. Язык Церкви всегда есть, даже когда голос Церкви не звучит и слова Церкви нигде не слышно, когда дар языков исчерпан и сами языки умолкли.
Язык Церкви рождается от избытка и полноты сердца, как средоточия Слова и Духа Бога и человека. Язык Церкви не материален и не душевен, не объективен и не субъективен, не информативен и не лжив. Он знает все о всем. Им выражается Божья Истина. Он совершает церковные таинства и выражает всякую правду, т.е. то, что правильно и праведно в мире, в жизни и в человеке, и значит, в самой Церкви. Он открывает Божьи Тайны, которые им же и движут.
Язык Церкви — единый язык всех, служащих Богу тем даром Духа Святого, который они получили. Это язык всех чинов и соборов, язык ангельский и человеческий, при условии, что его носители не потеряли благодати и Истины.
Конечно, язык Церкви — не только язык Богоединства и Истины, не только язык Веры, Надежды и Любви, это и язык Мира и Свободы, Пути, Жизни и Света, это язык Слово-Хлеба и божественной Премудрости, единственно могущих дать жизненное основание всякому в Церкви наставлению, оправданию, закону, чину и уставу.
Язык Церкви, будучи формо- и смыслообразующим началом в ней, ограничивает безграничное в мире сем, чтобы тьма не объяла Свет Церкви. При этом он преодолевает все границы мира сего, чтобы готовить новый путь Господу, прямыми делать стези Ему, доколе Он придет.
Язык Церкви возвещает и сокрывает, он сам ликует и поет, находясь в вечной исихии Божьего Мира. Он ищет себе адекватного и полного воплощения в голосе Церкви, в церковном слове и духе.
Конечно, никто (и ничто) не может говорить на этом языке по должности, или по положению, или по возрасту, как и по кафедре или по сану, или иному заранее объективно известному статусу: сами по себе ни соборы, ни патриархи, ни папы, ни иные отцы или собрания народа церковного. Лучше овладевают языком Церкви лишь те, кто сам лично ближе к Богу, кто лучше знает Его в своем любящем сердце, те, кто более свят (вспомним слова Бальтазара о том, кому должно принадлежать богословие). В этом — тайна всякой настоящей церковной иерархии.
Как и все подлинное, язык Церкви имеет своего темного двойника в лице тех и того, кто и что, прикрываясь церковными символами и знаками, живет и работает по правилам и законам мира сего. Это язык многих официальных структур, язык окриков и приказов, прещений и наказаний, язык смирения других и личной гордыни, язык стяжательства и властвования, тоталитаризма, национализма и цезарепапизма, обскурантистского фундаментализма и секуляристского модернизма, язык ненависти и страха, всякой лжи, клеветы и беззакония, отступничества и предательства Христова Духа, служения сразу многим господам, как и всем идолам и грехам.
Языком Церкви можно овладеть, но ему можно лишь подражать, его имитировать, как это часто бывает в церковной жизни. Здесь нет внешних гарантий. Им может овладеть кто-то один (вспомним св. Василия Великого, который говорил: «Кто не со мной, тот не с Истиной») или какой-либо церковный собор, он может звучать с амвона или на улице, на стогнах мира сего. Он может воплощаться в простейших словах и вещах, но может воплощаться и в сложной системе знаков и символов, становясь при этом также понятием философским и научно-филологическим.
Язык Церкви — язык красоты и порядка, но не хаоса и безобразия. Он ведет человека к Богу и ближнему, а не уводит от них. Поэтому, это то, что должно быть внятно для всех верных христиан и, следовательно, насколько возможно, им всем понятно.
Поэтому и отвергли святые просветители славян «трехъязычную ересь», ныне возродившуюся в нашей церкви в виде ереси «одноязычной», как будто язык Церкви может звучать не на всех языках мира и не для всех народов, а только на церковнославянском, или украинском, или эстонском и т.д.
Внятность языка Церкви для людей — Божьих пророков — не случайно стала темой в соответствующих стихах Пушкина и Лермонтова, которые сами были не лишены пророческого дара, как и многие другие гении «святой русской литературы» (Т. Манн), особенно Достоевский и Мандельштам.
Итак, в языке Церкви выражает себя вся жизнь Церкви, прежде всего ее Священное Божественное Писание и Предание, т.е. все имеющееся в опыте Священной Истории Богооткровение и Богопознание. И поэтому каждый день, даже миг, в нем появляются новые духи и смыслы, новые краски и обертоны, новые акценты и языки, новые высоты и глубины, новые возвещения, требования, призывы и определения.
Ничто подлинное в жизни и мире, в человеке и обществе не чуждо языку Церкви и вместимо в нем, тем более, что он связан с вечной Божьей памятью и памятью человеческой, где он отражает все явления и события обоих миров, накапливая в себе все живые образы и ассоциативные ряды.
В языке Церкви можно узреть все цвета и цветы, в нем можно услышать, как поют птицы, как шепчут звезды. Он помогает каждому преодолеть ужас и страх, но он же способен внушить трепет и благоговение перед Богом и всем Его творением. Он ведет по Пути вечному, Который есть Христос, и призывает обратиться на тот же Путь заблудших. В нем — вечная симпатия всего ко всему и всех ко всем. В нем — слезы благодарности и милосердия. Он жертвенен во всем, но всем обладает. Его нельзя постичь без веры, надежды и любви. В нем — Свобода и личностность, которые никогда никого не насилуют. В нем светит Бог и преодолевает свое одиночество, холод и старость человек. Он — гарант и свидетель вечного Завета Бога и человека.
Церковь всегда должна говорить только своим языком, только на своем, свойственном ей языке — языке сердца и любви, откуда происходит единение духа и смысла, точнее, невыразимого духа и самовыражающегося разума, ибо несомненно, что язык Церкви как язык сердца сам порождает язык разума и духовного ума, а этот язык в свою очередь входит в само Сердце Церкви — Божий Дух, и в ее Главу, Которая есть Сын Божий, воплощенный Логос Божий — Христос.
22–24 сентября 1998