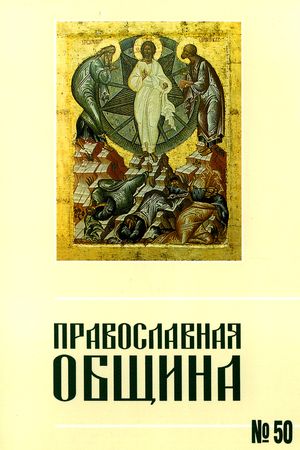Любовь и гнев (о поэзии А.К. Толстого)
«Господь, меня готовя к бою,
любовь и гнев вложил мне в грудь…»
Эти слова принадлежат замечательному русскому поэту Алексею Константиновичу Толстому (1817–1875 гг.). Ему и посвящаются страницы поэтического раздела в 50-м, юбилейном номере нашего журнала.
Биография поэта неординарна. Он родился в Петербурге, но детство провел на Украине, которую считал своей родиной.
Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!
Окончил Московский университет. Был дипломатом, служил в царской канцелярии, ведавшей вопросами законодательства. Во время Крымской войны — доброволец, майор стрелкового полка (тяжелый тиф, которым он заболел до начала боевых действий, можно, наверное, считать промыслительным). Затем — возвращение в Петербург и прошение об отставке, в котором есть невероятная для официального документа фраза: «Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре…». Единственно возможной должностью, не требующей мундира, А.К. Толстой считал «…говорить во что бы то ни стало правду».
В своем программном произведении — поэме «Иоанн Дамаскин» — именно в этом ключе он рассматривает бурные события церковной истории (иконоборческую смуту VIII века в Византии) и в них — коллизию, в которой человек как творческая личность сталкивается с непониманием, недоверием и, наконец, с грубым запретом на то, что составляет смысл его существования — «вольную мысль» и «вольное слово».
Конфликт между поэтом-проповедником и старым монахом, который стремится во что бы то ни стало его «смирить», описанный в поэме, в человеческом плане неразрешим. Лишь явление Богоматери и Ее укоряющие слова:
… Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?… —
приводят слишком сурового наставника к раскаянию и примирению с Иоанном:
И вот обнял его старик:
«О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
Меня ж, молю, прости, о чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!»
Но то, что естественно для жития или поэмыПоэт даже педалирует ситуацию: в житии Иоанн, нарушивший запрет «старца», был им прощен еще до явления Богоматери, согласившись выполнить унизительную епитимью., в обычной жизни принимает, как правило, совсем другие формы. Отставка, полученная А.К. Толстым после неоднократных просьб (слова Иоанна в поэме:
… О, отпусти меня, халиф,
Дозволь дышать и петь на воле!.. —
их стихотворная форма), не принесла ему ожидаемой свободыНа самом деле Иоанн ушел в монастырь лишь после того, как был оклеветан и искалечен, а затем получил исцеление.. Все лучшие, наиболее известные его произведения, оказались написанными до отставки. А.К. Толстого не приняли до конца ни «справа», ни «слева». Славянофилы обвиняли его в отрыве от русской жизни, западники — в квасном патриотизме. Сам себя он называл «случайным гостем» и в том, и в другом «стане»:
… союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!
Поэтому, признавая относительную правду обоих направлений, поэт стремится «выше»:
… в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа…
Удивительно, что его любовь к Красоте, понятой «идеально», почти как у Платона, и «держание ее стяга» выразились в первый, «доотставной» период его творчества прежде всего не в противопоставлении земного и небесного, а в их сочетании, но инструмент поэта — не лира.
… И я не раз под голос грома
Бывало, строил мой псалтирь, —
пишет он, отвечая на упрек славянофилов в излишней торжественности. Поэтому сочетание получилось довольно необычным.
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!.. —
слова, знакомые, наверное, многим по романсу Н.А. Римского-Корсакова. Но далеко не все знают, что они взяты из поэмы «Иоанн Дамаскин» и выражают восторг ее главного героя, идущего… в монастырь. Восторг — и никаких элегических нот! Потому что путник, который благословляет весь мир, не прощается с ним, а стремится к Встрече с Тем,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда!
Действительность, с которой столкнулся поэт после обретения внешней свободы, во многом изменила его первоначальные романтические представления. Юмор, столь часто присутствующий в его стихах, все чаще сменяется сатирой, точнее, то и другое переплетается. Даже в его шуточных стихотворениях в таких случаях остается лишь «доля шутки»:
Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Это о «непротивленчестве», не различающем смирение и лукавую покорность, результат которой — лишь умножение зла. А вот — о «властителях дум» того времени, непримиримых идейных противниках:
…Идут славянофилы и нигилисты,
У тех и у других ногти не чисты.
Ибо, если они не сходятся в теории вероятности,
То сходятся в неопрятности.
Но вывод из этого делается совсем не смешной:
И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее
Русского безбожия и православия.
На краю разверстой могилы
Имеют спорить нигилисты и славянофилы…
Стоит вдуматься в последние строчки — не пророчество ли это? До «тернового венца революций» (В. Маяковский) оставалось не так уж много времени…
В стихотворении — одном из итоговых, — строки из которого были взяты здесь в качестве эпиграфа, А.К. Толстой писал:
… и гнев я свой истратил даром,
Любовь не выдержал свою…
К этим словам поэта (сказанным, кстати, в расцвете сил) вряд ли кто-нибудь, знающий хотя бы отчасти его творчество, отнесется буквально. Стихи А.К. Толстого живут уже второе столетие. И «Средь шумного бала», и вирши Козьмы Пруткова и многое другое — не окажутся лишними в XXI веке.
Земля у нас богата,
Порядка только нет…, —
конечно, не совсем шутка. Подчас довольно едкая ирония многих стихов как будто призвана компенсировать то, что в ранних произведениях А.К. Толстого обращение к историческим сюжетам довольно часто происходило с оттенком стилизации. Это чувствовали даже издатели. Печатая его наиболее удачное (как он сам считал) стихотворение «Колокольчики мои…», они иногда оставляли в нем только первые пять строф о мчащемся по бескрайнему полю всаднике (действительно шедевр!) и опускали вторую часть, в которой описано добровольное и, более того, радостное (!) подчинение Украины России — почти райский образ славянского единства.
Заметим — реальность этой умилительной картины поставлена в стихотворении под вопрос. Что же все-таки ждет всадника в конце пути — радость или кручина, смерть от вражеской стрелы или «светлый град»? Но вместо ответа — лишь неукротимый бег лихого коня «куда не знаю» и грусть колокольчиков, сменившая такой радостный (в начале стихотворения) их звон…