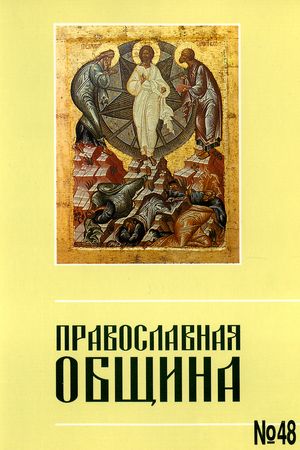«…Мы и забыли, что такие люди бывают»
Слова, вынесенные в заглавие, взяты из записи Лидии Чуковской от 30 октября 1962 г. В этот день Ахматова с веселым удивлением рассказывала ей о посетившем ее человеке:
«…Светоносец! Свежий, подтянутый, молодой, счастливый! Мы и забыли, что такие люди бывают…»
Кажется, уже все слова об Александре Исаевиче Солженицыне, будь-то в хвалу ему, будь-то в хулу, уже сказаны. Теперь стали просто отмахиваться готовыми словечками, притом не только порицательными, а даже хоть бы и похвальными, важно — что готовыми. Мол, ага, знаем-знаем. Все слова сказаны, все формулы известны. Сегодня труднее всего, но и нужнее всего — попробовать вернуться к той свежести первого впечатления, которое так осязаемо в озадаченности Ахматовой.
Пусть послужит для этого предлогом хотя бы 80-й день рождения.
Есть какая-то провиденциальная эстетическая сообразность в том, что день рождения этого человека приходится на самое темное время в году: день съежился дальше некуда, от стужи дух захватывает, из всех красок осталось только черное и белое, белизна снега и чернота мрака, — но каждая проходящая, отмечаемая тиканьем часов секунда явственно приближает солнцеворот. В жилах это чувствует кровь, в стволе дерева, наверное, чувствует по-своему сок. Время, движущееся к свету Рождества, становится ощутимым.
Когда же ему было еще родиться, как не в такие дни?
Еще раз вспомним: как это говорила Ахматова? Очень неожиданное, намеренно неожиданное слово — «счастливый». Оно выбрано круто наоборот и наперекор обстоятельствам биографии, да и вообще всему, что лежит на поверхности. Что оно рисует? Наверное, тот тип бодрости, который только и может быть у фронтовика, у лагерника — бодрость экстренных ситуаций, вспыхивающая именно от острого, катастрофически- напряженного чувства времени. И мне вспоминается, как я первый раз услышал голос Солженицына по радио. Солгу, если не сознаюсь, что тогда был скорее озадачен, чуть ли не отпугнут: чем? Да стремительностью угадывавшегося за ней музыкального темпа — не столько темпа речи, сколько темпа души: presto, prestissimo. Для нас, воспитавшихся в отталкивании от призрака ложной бодрости официоза, для нашей интеллигентской привязанности к отрешенным мыслительным созерцаниям и к темпам более созерцательным — это все не очень легко. С другой стороны, как же не вспомнить, что во времена, лучше, чем наше, знавшие толк в различии типов и призваний, именно такой психологический склад — воина, «кшатрия», — почитался жизненно необходимым?
Трудно не вспомнить, как солженицынский Самсонов, опять-таки «кшатрий», непроизвольно медитирует над немецким идиоматическим оборотом «hцchste Zeit»: «будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись». Острие пика времени, концентрация всего на этом острие — вот самая суть солженицынской философии времени. Об этом хорошо писал в своей монографии о писателе женевский русист Жорж Нива. Христианин не может не подумать о том, что вера учит нас чувствовать всякое время как «hцchste Zeit». Но, конечно, у Солженицына это качество переживания времени имеет очень конкретные обертоны, связанные с его «воинской» психологией.
Да ведь и чисто литературно Солженицын сильнее всего тогда, когда он выступает как, условно говоря, «баталист» — в весьма расширенном понимании этого слова: когда он изображает действия и события сугубо динамические, непредсказуемый исход которых решается от секунды к секунде. Таково в особенности — лагерное восстание. Таковы беззвучные поединки глаз, как у полковника Яконова и Сологдина. «Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал взгляд полковника. Но и глаза Сологдина слепили блеском: «Арестант-арестант! Ты все забыл!» Таковы шумные поединки политиков во взрывчатом публичном контексте думского заседания или митинга. Таковы неблагообразные хэппенинги на улицах революционного Петрограда. Таковы же мемуарные эпизоды хроники поединка писателя с властью. Но таковы, разумеется, и сцены батальные в самом обычном смысле, какие мы встречаем в «Августе Четырнадцатого» и далее. (Я не разделяю распространенной точки зрения, согласно которой позднее творчество Солженицына как целое ниже раннего, взятого опять-таки как целое; мне представляется важнее преимущество динамических сцен над статическими, которое, как я нахожу, налично и тут, и там).
И стилистика тем убедительнее и ярче, чем непосредственнее она вытекает из «батализма».
«…В их охороненные палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обутке ЧТЗ» (Сквозь чад, Париж, 1979, с. 60), — да таких неистовых плясок ритмической прозы под резкое звяканье созвучий в русской литературе не было со времен Андрея Белого.
* * *
Слишком понятно, что в те времена, к которым относятся наиболее драматические перипетии единоборства писателя с советским режимом и советской идеологией, читатель, если уж принимал сторону Солженицына, склонен был искать в нем авторитет прямо-таки абсолютный, никак не меньше; оборотной стороной этой неизбежной безудержности был ожесточенный тон, в который слишком часто впадали тогдашние оппоненты Солженицына внутри т.н. диссидентства. Ныне страсти подостыли, но подостыла и заинтересованность, время на дворе — забывчивое. (Уж если так легко позабылось, кто вчера с немногими единомышленниками защищал веру, а кто радел о проведении в жизнь начальственных указаний по борьбе за дело атеизма, уж если юбилей Комсомола, если мы не ослышались, сопровождался богослужением, словно ничего, ну ничего никогда не было, что там говорить…). Однако оправданий для забывчивости не будет никогда, жизнь сохраняет в себе все равно только тот, кто не разрешает себе забывать. В том числе и того, чем все мы обязаны Александру Исаевичу Солженицыну. Что значил не для любителей словесности, а для всей страны выход того одиннадцатого новомирского номера тридцать шесть лет назад. И его решительного стояния за ценности веры, неприятного не только глашатаям официозного безбожия минувших лет, но — почему бы не сказать этого? — и крепчающему по всему свету «тренду« нетерпимого секуляризма, забывать тоже не след.
На смену всем эксцессам самоотождествляющегося преклонения и самодовольной неуважительности, равно смахивающим на суждения эгоцентрического подростка о старших, должно придти немечтательное, трезвое, остро заинтересованное внимание именно к своеобычности всего облика писателя. Именно к тому, чем он не похож ни на одного из нас. И к тому, чего никто из нас за него не скажет и не сделает.