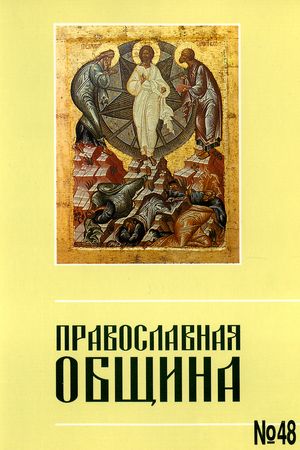Язык Церкви — возвращение к Церкви. (Размышления после конференции «Язык Церкви»)
Название этой конференции, впервые после долгого перерыва прозвучавшее несколько лет назад в связи с очень конкретной проблемой — возможностью перевода православного богослужения на русский язык, в этой своей формулировке неожиданно сконцентрировало в себе две главные темы мысли нашего века: тему Церкви — как важнейшую в богословии, и тему языка, находившегося в центре философского постижения. И если преодолевая секуляризм и начиная серьезный разговор о воцерковлении всего человеческого бытия, Церковь все больше и больше переживает себя как мир и дом Божий, то и язык не случайно был назван в нашем веке «домом бытия».
Однако имеет ли смысл сегодня, начиная разговор на тему «язык Церкви», вспоминать еще и о философии? Не напрасно ли в самом начале конференции в докладе епископа Серафима (Сигриста) прозвучали имена Рудольфа Отто, Cерена Кьеркегора, Мартина Хайдеггера, Райнера Мария Рильке, а затем — Вильгельма фон Гумбольдта? Не излишне ли это? Разве церковь нуждается еще и в поддержке философии, чтобы заговорить о том, что ей — ближе близкого? В самом деле, не знаем ли мы, что «новые языки» в Евангелии от Марка упомянуты как второе по порядку «знамение, сопровождающее уверовавших», а «иные языки» со дня Пятидесятницы — возможно, и главный признак Церкви? Затруднение однако в том, что несмотря на эту очевидность, язык, чего нельзя с удивлением не признать, в кафолической традиции практически никогда не ставился в центр размышлений о Церкви, не говоря уже о том, чтобы осмысливаться именно как признак, знамение Церкви (что, естественно, породило сильное сектантское движение, пытающееся восполнить эту лакуну).
Поэтому можно снова и снова благодарить Бога за то, что, как показала конференция, дискуссия вокруг вопроса о богослужебном языке, развернувшаяся сегодня в Русской церкви, позволяет нам увидеть проблему языка Церкви гораздо глубже, чем мы привыкли думать.
В самом деле, ожесточение, возникшее несколько лет назад вокруг возможности совершения богослужения на русском языке, могло сильно удивить неподготовленного человека. И еще до сих пор, когда заходит об этом речь, становится подчас нестерпимо скучно, — ведь вопрос этот кажется давно решенным и решенным достаточно однозначно.
Прежде всего, само Евангелие говорит нам, что даже если девяносто девять овец прекрасно понимают возвышенный церковнославянский, а хоть одна потерялась и ее можно найти при помощи русского, то нужно за ней спуститься с этих, пусть даже и красивых высот (см. Мф 18: 12), пусть даже и с риском. (К сожалению, в этой связи нельзя не заметить, что проблема возможности русскоязычного богослужения, противниками которого часто становятся в церкви люди различных и даже противоположных ориентаций, еще раз подтверждает ту истину, что крест для иудеев соблазн, а для эллинов — безумие
. К тому же на сегодня ситуация реально такова, что оставить на «высотах» нужно только одну овцу, а вот спускаться-то как раз за девяносто девятью).
Во-вторых, в Русской церкви, как было хорошо показано в докладе преподавателя Свято-Филаретовской высшей школы В.К. Котта «Проблема богослужения на Соборе РПЦ 1917/18 гг. и в последующее время», по этому вопросу существуют как многочисленные свидетельства святых, так и недвусмысленное решение Московского собора 1917–1918 гг. о возможности совершения богослужения на русском и малороссийском языкахСм. об этом также его статью «Священный собор православной российской церкви 1917–18 гг. о церковно-богослужебном языке: предыстория, документы и комментарии», «Православная община», № 46, с 75–107..
Казалось бы, какие могут быть еще возражения? И действительно думалось: вот-вот и злой туман рассеется. Однако этого не произошло, и через какое-то время стало приходить тревожное ощущение, что дело тут не просто в чьей-то злой воле или невежестве, но есть здесь нечто очень глубокое, чего мы пока не видим, а значит, не имеем и права вот так просто закрыть вопрос. И ведь правда, сколько ни говорилось, что вопрос этот не догматический, а чисто пастырский, это как-то не помогает. Более того, уже становится понятно, что даже если в ближайшие десятилетия все мы безболезненно перейдем на национальные языки, как это произошло в католической церкви, то и это не избавит нас от задачи продумывания корней этой на первый взгляд столь легкой проблемы. Если же мы пройдем мимо нее, соблазнившись кажущейся простотой ее решения, то, возможно, рискуем пройти и мимо той глубины реальности Церкви, где проблема языка и проблема самой Церкви совпадают, а значит, и ожидаемые реформы, сами по себе давно назревшие и необходимые, не принесут ожидаемого плода.
Именно поэтому конференция «Язык Церкви» изначально задумывалась не просто как разговор о тех или иных конкретных проблемах богослужебного или богословского языка, но как попытка увидеть язык Церкви как средоточие ее жизни, попытка заглянуть в те области, в которые, во многом неожиданно для нас, входит проблема перевода богослужения на русский язык.
Итак, возвратимся к тому, с чего начался первый прозвучавший на конференции доклад, — к философии. Можно предположить, что это обращение было не случайно — здесь есть одна интересная историческая параллель. Происходящее сейчас вокруг проблемы русскоязычного богослужения очень напоминает то, что происходило в перерыве между первым и вторым Вселенскими соборами в связи с догматической формулировкой о «единосущии». В самом деле, смотрите. Как и тогда, по «горячей» церковной проблеме существует весьма авторитетное соборное решение, авторитет которого к тому же усиливается еще и святостью многих, как стоявших у его истоков, так и принимавших его, но несмотря на этот факт решение не принимается сразу всей церковью, нет полной рецепции. Это понятно: есть вещи, которые нельзя принять «по послушанию» в обыденном смысле этого слова, т.е. слушаясь того, в чем не слышишь ясного голоса Истины. Когда происходит такое, нельзя сказать, что дело просто в чьей-то косности, злом умысле или антиевангельском духе, во всяком случае ясно, что проблема не только в этом.
Действительно, мы знаем теперь, что если бы не было тогда этих споров, то, возможно, не родилось бы и каппадокийское богословие, а вернее — эти споры и велись потому, что разум церкви действительно требовал объяснения, истолкования данной догматической формулировки, того выявления ее сокровенной истины, без которого она могла быть понята неправильно.
Снова могут возразить, что данная параллель весьма спорна, поскольку проблема богослужебного языка не является проблемой догматической. Верно. Но может быть проблема языка и есть в какой-то степени невидимое основание большинства догматических проблем?
Эти слова могут кого-то шокировать, но в самом деле, разве вопрос о «единосущии», если присмотреться, не был вопросом в преимущественной степени именно языка Церкви? Не потому ли это слово — гностического происхождения и сильно пахнувшее савеллианством — было столь важно для церкви, что входящие в него слова — «единое» и «сущность» — находились в центре философского языка той культуры, в которой в то время «странствовала» Церковь, и поэтому введение их в самый-самый центр христианского исповедания означало начало воцерковления культуры и всей поздне-эллинистической цивилизации? И наоборот — потерять это слово, оставить его «на откуп» языческим философам, не грозило ли потерей античного мира в целом? Другими словами, вопрос о единстве Лиц Святой Троицы неожиданно предстал вопросом о кафоличности Церкви того времени, и в догматической формулировке тогда оказалась невидимым образом присутствующей и ЦерковьЗаметим, что это вполне соответствует Писанию — большинство тринитарных формул Нового завета включают в себя и Церковь, ср.: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа со всеми вами
(2 Кор 13: 13), Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши
(2 Кор 1: 21–22).. И не только вопросом о кафоличности, но и вопросом о единстве Церкви. Ведь богословский подвиг каппадокийцев принес в церковь мир сразу в двух смыслах этого слова — как примирение и как вселенную.
Сразу отметим, что произошедшее тогда в церкви очень сходно с тем, как апостол Павел в послании к коринфской общине описывает проявление духовных дарований говорения на языке и его истолкования: Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй
(1 Кор 14: 27). В самом деле, и само слово «единосущие», и те формулировки, которые принимались на всех этих «бесчисленных соборах и собориках», как назвал их А.В. Карташев, — что это, как не говорение на новых языкахКстати, св. Григорий Палама так и называл истинно догматисующих — говорящими языками (см. Триады II.3.7).? Но это говорение было лишено адекватного истолкования до того, как вмешались каппадокийцы. Заметим, что и численное соотношение остается сходным — говорящих языками всегда больше, чем толкующих, ведь само толкование здесь как бы подводит итог определенному этапу догматического творчества церкви, делая внятным для нее самой то неизреченное, что ищет, силой благодати Христовой, воплощения в слове.
На этом примере мы можем понять, почему апостол называет дар языков и истолкования в числе главных даров Духа (замечая, впрочем, что говорением на языках без истолкования увлекаться не стоит). Рано или поздно любой человеческий язык, которым начинает пользоваться Церковь в своем странствовании, вступая на новую географическую или культурную территорию и возвещая Евангелие, становится недостаточен для постижения и выражения Тайн Божьих (а постижение и выражение в случае любого живого языка — вещи неразрывные), ведь
«язык Церкви — это то, что Бог во Христе хочет сказать миру, человеку и человечеству. Но это то, что «не находит соответствующего масштаба ни в целом мире, ни в отдельном человеке»Здесь и далее в докладе свящ. Георгия Кочеткова цитируется работа католического богослова Ханса Урса фон Бальтазара «Достойна веры лишь Любовь», М., Истина и жизнь, 1997 г., номера страниц в скобках — ссылки на это издание.» (доклад свящ. Георгия Кочеткова «Язык Церкви как дар Слова и плод Духа»).
Это значит, что все, что мы пытаемся говорить о великих делах Божиих
на любом человеческом языке, неизбежно вмещает истину частично, а значит — односторонне и, следовательно, искаженно (что и произошло с Арием и вообще всеми современными ему и последующими ересиархами). Тогда церковь, столкнувшись с противопоставлением этих частичных и односторонних взглядов, и начинает сотрясаться тем раздором, который идет от вавилонского смешения и до сих пор живет в нашем языке. Ведь причина этого смешения в том, что пытались добраться до неба земными средствами, упразднив границу между землей и небом, объединив для этого человеческие усилия. Это, между прочим, серьезный аргумент именно против того утверждения, что, мол, единый церковнославянский язык — гарант единства славянских церквей и народов. Подобная единообразность вовсе не ведет к реальному единству: давно замечено, что мы хуже всего понимаем друг друга именно когда говорим на «одном» языке. Ведь фактически у каждого человека свой язык, и поэтому настоящий диалог и настоящее единство всегда трудны, внешняя же легкость, как правило, свидетельствует об обратном.
Единую Истину невозможно выразить, просто соединив разные точки зрения, как невозможно сделать одно Евангелие из четырех, которые по-человечески несоединимы и даже противоречивы, ведь Истина не в механической или среднеарифметической совокупности. Ведь то, что призван сказать язык Церкви,
««всему — внешнее, для мира и человека непредставимое (подлинная эсхато-логия), — может быть воистину воспринято лишь как «совсем-иное» (с. 4). То есть, как бы мы сказали, лишь как трансцендентное всему — при всей имманентности нам и нашему миру» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).
Таким образом, призванный оставаться в мире сем и побеждать мир сей, будучи не от мира сего, вмещать невместимое, соединять несоединимое на земле, разрешать то, что в рамках истории разрешено быть не может, язык Церкви, новый язык имеет не просто жертвенную природу, как отмечалось на конференции, но и вообще природу Креста. Это значит, что он не просто новый язык, но существенным образом и всегда — иной язык, «совсем-иной», иной всему, для иудеев соблазн, для эллинов безумие
. Чудо Пятидесятницы не в том, что апостолы стали говорить на иностранных языках, как можно понять из неточного здесь Синодального перевода. Употребленная конструкция (родительный самостоятельный) говорит, что в то время, как апостолы говорили на иных языках, каждый слышал их говорящими на его собственном языке. Таким образом, иной язык — это язык Креста, он по-разному, но для всех — иной, но потому и равно внятный всем, имеющим уши слышать, именно как родной, достигающий того видения мира и человека в Боге, которое одно преодолевает раздробленность и фрагментарность, односторонность и ограниченность видения после-вавилонского смешения, возвращая к тому началу, к той Альфе, которая одновременно есть и Омега всего. Не случайно в своем вступительном слове архиепископ Михаил (Мудьюгин) напомнил, что церковь призвана к подражанию Христу во всем, в том числе и в своем языке, а С.С. Аверинцев в связи с этим заметил, что в языке Христа совмещались оба эти свойства: с одной стороны — это был язык родной и понятный всем (и дивились словам благодати, исходящим из уст Его
(Лк 4: 22), а с другой — иной и невместимый для всех (Трудно это слово. Кто может его слушать?
(Ин 6: 60)).
О необходимости сегодня для церкви такого нового языка, как языка прежде всего иного, на конференции замечательно говорил в докладе «Язык Церкви и межконфессиональный диалог: православие и католичество» проф. о. Эрнст-Христофор Суттнер (Вена) в приложении к проблемам современного межконфессионального диалога, обращаясь как раз к опыту тех времен, когда шли споры о «единосущии». Межконфессиональный диалог требует, с его точки зрения, во-первых, нового богословского языка, отличного от всех, и нового, иного по отношению ко всем наличным конфессиональным языкам, а во-вторых — как раз того разъяснения, истолкования, которого и тогда пришлось ждать пятьдесят лет, и который, как тогда, так и теперь требует терпения и подвига.
Новый язык, на котором начинает говорить Церковь, это снова уже не просто обычный человеческий язык, которым «пользуется» Церковь, но подлинное христианской делание, неотделимое от живого Предания, область подвига и освящающее таинство веры, таинство, «веществом» которого является сам язык. Это выход за пределы языка через врата самого языка:
«Это должно быть предметом радости для верующих и посрамлением для неверия — чудо пресуществления, которое произошло со словами в христианском обиходе» (доклад С.С. Аверинцева «Язык как совместное обладание эпох и поколений»).
Понятый таким образом, язык Церкви выводит нас в ту область свободы, где только и достигается любовь, где становится возможной встреча с Богом и друг с другом, то есть сама Церковь. (О языке Церкви как о «таинстве свободы» (А.С. Хомяков) напомнил в своем докладе «Свобода как язык Церкви» Н.А. Струве). Имеющий таинственную, т.е. жертвенную и крестную природу, он участвует в собирании и устроении Церкви и всегда связан с пролитием крови — духовно, а иногда и физически: «Язык Церкви — это продолжение Пятидесятницы и мук рождения Царства Небесного в мире сем, это само рождение нового мира из материи мира сего, т.е. это освящение мира, жизни и человека, как и имени Божьего в их синергии» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).
То, как язык Церкви становится «продолжением Пятидесятницы», имея непосредственное отношение одновременно и к созиданию церкви, и освящению мира, мы как раз и видели на примере того, что происходило во времена первых Вселенских соборов. Действительно, «единосущие» — слово, с одной стороны, четко фиксирующее церковь как внутреннюю и закрытую реальность — как то место, где известны не раздробленные образы истины, но сама единая Истина, т.е. не зеркальные отражения-тени вещей, но «самый образ вещей». Здесь Церковь как бы говорит, что то, что в этом мире называется «сущностью» — лишь мертвая тень той истинной сущности, иной всему и всегда новой, которая не вмещается в мир, но которая есть в Боге, и которую она, Церковь, знает. Именно поэтому такой язык четко отграничивает Церковь как ту область, где слово «единосущие» ясно различаемо от своего гностического или философского двойника. Но с другой стороны, это же самое слово и позволяет церкви обращаться к миру, и, главное, слушать и слышать мир, исцеляя его раны, видя Свет в его тьмеСр. «язык Церкви, будучи формо- и смыслообразующим началом в ней, ограничивает безграничное в мире сем, чтобы тьма не объяла Свет Церкви. При этом он преодолевает все границы мира сего, чтобы готовить новый путь Господу, прямыми делать стези Ему, доколе Он не придет» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).. Говоря в своем докладе об этом «таинстве пресуществления слов» в языке Церкви, С.С. Аверинцев заметил, что Церковь, подобно Аврааму, не только выходит из реальности мира сего, но и хранит, сберегает (а значит — и освящает) мир в своем языке.
Но именно это и случилось когда-то в Иерусалиме в день Пятидесятницы: утверждение Церкви как внутренней реальности, имеющей четкие границы, сошествием на нее Святого Духа одновременно и открыло ее миру, дало ей возможность и слышать его боль, и нести ему Слово, и хранить его в своем языке. Это и определяет тот малозамечаемый факт, что единый дар говорения языками в Писании двоится. Прежде всего, мы встречаем то, что случилось на Пятидесятницу: апостолы говорят на иных языках, понятных всем людям с открытым сердцем (тем, у кого оно закрыто, здесь всегда чудится действие сладкого вина). С другой стороны, это то, что происходило в общинах апостола Павла, т.е. уже непосредственно внутри церкви святых, и о чем мы уже упоминали. Человек, наделенный особым даром, говорит на непонятном языке (непонятном, в том числе, во многом и ему самому), а другой толкует. Очень важно, что это все-таки единый дар, одна сторона которого неотделима от другой.
Но как же все это отличается от современной ситуации, обрисованной в докладе Якова Кротова «Язык в жизни христианина — средство общения или средство разобщения?», когда та или иная историческая церковь часто бывает способна либо на миссию, либо на собственно богословие, когда язык церкви либо сакрализуется, либо превращается в жаргон, когда тот или иной особый язык, утверждающий самотождество общины, не открывает ее миру, но наоборот, закрывает ее для мира, а миссионерская направленность, как правило, бывает чревата потерей глубины церковной жизни и богословия, когда верующий человек мечется от индивидуализма к коллективизму, не видя выхода, когда церковь порой может только навязывать человеку свой язык как некую заданную рамку, искусственно (и часто агрессивно) накладывая ее на бытие человека, потеряв способность и свободно разговаривать на своем языке, и слышать мир. Ведь действительно, как часто человек, придя из мира в церковь, становится глух, перестает слышать жизнь мира, живую ткань бытия. Только думается, что нельзя, что мы не имеем права говорить, как это пытался делать докладчик, что дело просто в том, что церкви и общины бывают разного толка — миссионерские и не-миссионерские и т.п. Скорее это свидетельствует, что церковь во многом потеряла самое себя, потеряла свою идентичность, секуляризировалась, т.е. прежде всего отождествилась с теми формами, в которых она существует в мире сем, не смогла преодолеть после-вавилонское смешение и разделение в таинстве своего языка, перестала осознавать себя реальностью «в мире сем, но не от мира сего», постоянно раздираясь на эти по-человечески несовместимые крайности, то есть отказываясь от своего креста.
Эта трагическая разделенность языка современной церкви, свидетельствующая о потере чего-то важнейшего, сущностного, утрате евангельского понимания языка Церкви как одновременно и нового, и совсем-иного, и делают вопрос о языке Церкви столь болезненным, ведь таким образом он оказывается ни больше ни меньше как вопросом о существовании самой Церкви и о судьбе христианства:
«Каков же язык Церкви как Тела Христова и каждого христианина как живого члена этого живого тела? Этот вопрос по существу своему равнозначен вопросу: что есть собственно христианского в Христианстве?» (доклад о. Георгия Кочеткова).
Вопрос этот непрост и сегодня актуален как, может быть, никогда ранее. Антиномичность языка Церкви — говорящего, по иудейскому присловью времен Христа, словом человеческим, но говорящего то, что никаким словом выражено быть не может, — ставит нас в очень трудное положение. Как всякое таинство не имеет достаточных внешних критериев своей действительности, так и качества подлинной новизны и инаковости языка Церкви не сохраняются просто в словах и выражениях того или иного языка (даже знаменитый «апофатизм» православного богословия может превратиться в голый и бесплодный метод, против чего предупреждал еще свт. Григорий Палама в «Триадах», утверждая при этом некую новую катафатику, превосходящую апофатику). Попытка сохранить эти качества внешним образом приводит или к фундаментализму (внешняя инаковость миру), превращающему церковь в музей, или к модернизму (внешняя новизна языка церкви), делающему ее, наоборот, похожей на офис, в то время как язык Церкви — это еще и диалог культур и поколений, в котором присутствуют различные пласты, сосуществование которых только и делает язык церкви действительно домом церковного бытия:
«… это, действительно, жилье. Это не мемориальный предмет для увековечивания памяти людей, которых уже нет в живых, но это и не пространство жизни людей, которые явились ниоткуда, безотцовщины… Попытка заговорить на языке совсем другого времени, воспроизвести язык других поколений, к которым мы, хорошо это или плохо, не принадлежим, столь же болезненна, как попытка начать на пустой земле, на которой никогда ничего не было. Очень важно и трудно, особенно трудно в наше время, сохранить здравое равновесие, без экзальтации, без преувеличений» (доклад С.С. Аверинцева). «Ничто подлинное в жизни и лице, в человеке и обществе не чуждо языку Церкви и вместимо в нем, тем более, что он связан с вечной Божьей памятью и памятью человеческой, где он отражает все явления и события обоих миров, накапливая в себе все живые образы и ассоциативные ряды» (доклад свящ. Георгий Кочеткова).
Если говорение и истолкование как жертвенный подвиг общения и любви по дару Духа Святого прекращается, то тот или иной конкретный язык церкви либо смешивается с языком мира сего, либо превращается в корпоративный (богословский) жаргон (слово, которое так часто звучало на конференции по отношению к современному богословскому языку), либо приобретает черты сакральности.
Проблема сакральности языка, столь актуальная сегодня в нашей церкви, естественно, неоднократно поднималась на конференции, и нам еще предстоит к ней вернуться, но уже сейчас, исходя из вышесказанного, можно предположить, что смысл сакрального языка — тень святости, т.е. наглядное изображение инаковости, трансцендентности, в то время как подлинный язык Церкви — это, если можно так выразиться, сама святость. Ведь сакральный язык всегда иной только по отношению к какому-то не-сакральному языку. Подлинный же язык Церкви, будучи таинством, именно совсем-иной, поэтому у него может и не быть формальных признаков святыни, формально он как раз может быть подобен любому человеческому языку. Инаковость — его внутреннее качество, не нуждающееся и, более того, часто даже не выносящее внешней формализации, неизбежно возвращающей церковь к реальности Ветхого Завета. Здесь та же разница, что между Христом и Иоанном Крестителем. Иоанн, внешне живущий самым радикальным и чрезвычайным образом не как все, — высшая точка Ветхого Завета, т.е. тени будущих благ
, в то время как Иисус, Сын Человеческий, в Котором часто нет ни вида, ни величия
, Который ест и пьет
и про Которого говорят: Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам
, — это и есть самый образ вещей
, ведь Свою инаковость миру Он носит в Себе как внутреннее и всегда актуальное качество.
Так и язык Церкви — «не просто божественен, но богочеловечен», чем и отличается от любого религиозного, сакрального языка. Между тем, сейчас уже оказывается мало напоминать о трехъязычной ереси. Уже даже на этой конференции приходилось слышать, что, мол, церковнославянский язык, конечно, не сакральный, но воспринимается как сакральный. Как будто это не одно и то же! (И самое удивительное, что признание этого очевидного факта, т.е. прямой и, в отличие от пресловутого «неообновленчества», непридуманной ереси, мало кого смущает!)
Означает ли это, что Русская церковь действительно впадает в ересь, или что она просто все еще живет по большей части реальностями Ветхого Завета? И возможно ли это для новозаветной церкви?
Отвечая на этот вопрос, стоит обратиться к наследию епископа Михаила (Грибановского), столетие со дня преставления которого мы вспоминали совсем недавно, 19-го августа 1998 г. Известно теперь, что у владыки Михаила, одного из самых светлых людей девятнадцатого столетия, можно найти предвосхищение большинства положительных процессов, происходивших в этом веке в нашей церкви (например, именно он вдохновил движение за восстановление патриаршества в России), поэтому есть надежда найти у него что-то и на тему языка Церкви.
К сожалению, его замечательная книга «Над Евангелием» практически никем не рассматривается как серьезный богословский труд (у нас еще, как в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери, чтобы к тебе отнеслись всерьез, надо одеться в европейское платье. Это тоже, кстати, актуальная проблема языка Церкви). Между тем, в этой книге есть совсем короткая заметка, ставящая проблему языка Церкви как нельзя более серьезно, и сегодня имеет прямой смысл вспомнить слова этой статьи.
Прежде всего, епископ Михаил, как и во всей книге, утверждает евангельскую свободу духа и в этой области:
«Кто живет во Христе, у того все должно быть вдохновенно, все вытекает из воздействия на него Святого Духа. Такому последователю Христа не нужно мучить себя предварительными расчетами и предугадываниями, что и как в данную минуту сказать. Когда настанет минута, Дух Святой подскажет, как действовать и что сказать…»
Затем, однако, епископ Михаил напоминает и о необходимой трезвенности:
«Жизнь в Церкви, и частная, и народная, должна быть жизнью во Святом Духе, в Его свободе, в Его вдохновенном озарении мысли. Все это несомненно, но все же нужно иметь в виду, что для такого вдохновения, для такой свободы во Христе должна быть известная душевная почва…
Когда Господь призывал к возрождению Своих соотечественников, когда Он указывал им путь вдохновенного руководительства свыше, от Отца, Он имел пред Собой в высокой степени культурную почву… подготовлены были сделаться таковыми, в их распоряжении каждый миг был полный запас мессианских мыслей, чувств и стремлений. Они мыслили библейски, библейскими образами и изречениями; их чувства были продуктом тысячелетней религиозно-исторической культуры и были не наносными, не внешними, не случайными, а глубоко древне-традиционными, пережившими тысячи испытаний и опытов, а потому ставшими их природой во всякое время, при всяких внешних обстоятельствах…
Дух Святой нисходил и на язычников, скажут. Да, но и здесь Он находил не каменистую, покрытую наносными валунами, почву… Но, однако, это не была культура, направляемая откровением Самого Бога… Потому-то в дальнейшем мы имеем дело с личными мнениями, и истолкования откровения хотя и носят в себе след влияния Святого Духа, хотя и веют вдохновением свыше, но вместе c этим привносят и нечто частное, иногда неточное, одностороннее, или даже не совсем согласное с откровением. Это — отдельные отраженные лучи, не выражающие всей чистоты и полноты света Духа Христова, а иногда затемняющие и искажающие его.
С дальнейшим распространением христианства, благодать Святого Духа падала на более и более неподготовленную природную почву. Полагаться на личное вдохновение стало все более опасным, и историческое предание понемногу заменяет живой голос Святого Духа, Который говорил так ясно в избранниках Божиих первенствующей церкви. Это требовалось самою совестью христиан, сознававших свою немощность по духу сравнительно с первыми носителями Христова возрождения. Так христианское воспитание получило исторический характер, подпало под влияние внешнего авторитета церкви. Для школы воспитания еще слабых и не установившихся внутренне народов это было вполне законно и нормально. Закон, детоводитель во Христе, был, есть и будет и в отдельном человеке и в целых народах…
Но он не должен заменять собою все, а должен лишь воспитывать и вводить затем в жизнь Святого Духа, присущую Церкви… И это, конечно, так бы и было, если бы только церковь в ее вселенском значении была воспитательницей новых народов. Но, к сожалению, воспитание чисто церковное отступило на второй план, в него стали вноситься национальные односторонние черты и чисто внешняя государственная сила…»
Далее, сделав несколько глубоких и важных замечаний о судьбе исторической церкви в различных культурных языках, еп. Михаил переходит к проблемам церкви российской:
«Русский народ, восприняв вселенское церковное понимание из рук Византии, избег ее власти, как государства и народности, и развивался более самобытно, хотя медленно, в атмосфере церковных идеалов. Внешний авторитет Церкви, в лице ее представителей в России, не будучи чужим и неприятельски-насильственным или подавляющим по своей высшей культуре, не был так силен и влиятелен, чтоб дисциплинировать народные массы. Но сам народ, сознавая свою духовную слабость, всегда рвался установить этот авторитет и определить, ограничить им себя извне. Отсюда, с одной стороны, у нас слабость внешней церковной дисциплины, а с другой — привязанность народа к внешним традициям и установлениям, к букве и обычаям церковным, даже вопреки центральной власти, как у старообрядцев.
России предстоит воспользоваться своим, уготованным Самим Богом, положением в истории воинствующей церкви на земле. Она должна создать у себя образование, воспитание и формы жизни в строго вселенском церковном духе, во всей высоте и широте христианских идеалов; она должна возделать из себя почву, где благодать Святого Духа нашла бы все удобства, чтобы произрастить роскошный цвет Христовой жизни, свободу святого вдохновения во Христе. Но эта свобода, эта настоящая жизнь во Христе возможна лишь после продолжительной культуры в строго христианском церковном духе. Только после такой школы возможно существование новозаветного народа Божия».
Если епископ Михаил прав, то наша церковь и жила, и все еще продолжает жить в подзаконном, ветхозаветном по духу периоде своего существования — как необходимом и естественном, но преходящем этапе жизни всякой поместной церкви. Однако эти слова были написаны накануне двадцатого века, и за истекшее столетие церковь приобрела новый опыт, и уже одно то, что, может быть впервые в историческом православии, столь громко и широко ставится вопрос языка Церкви уже не как вопрос чисто технический и пастырский, но мистический и экклезиологический, есть знамение того, что Русская церковь подошла к тому рубежу, где перед ней встает вопрос о переходе, наконец, к подлинно новозаветной, евангельской жизни, о вступлении в ту «землю обетованную», о которой пророчествовал епископ Михаил.
О наступлении же этой «новой эпохи» свидетельствовал в 20-х гг. Николай Бердяев. Он писал, что для того периода, который на наших глазах оканчивается, для церкви характерна опора на нечто внешнее, например, государственную власть или, добавили бы мы, на особый «сакральный» язык. По мысли епископа Михаила, в этом нет ничего плохого, пока дело касается подзаконного существования именно как подготовки необходимой культурной почвы для действия Духа. Но как только речь заходит о Новом Завете, приверженность Закону, приверженность внешнему, по слову апостола Павла, становится «отвержением благодати Божьей». При этом, по мысли Бердяева, не столь важно, на какое именно внешнее мы будем опираться. В этом опасность новозаветного времени, «последних времен». Если для Ветхого Завета характерно противостояние Добра и Зла, Света и Тьмы, Бога и Дьявола, то в Новом Завете дело обстоит значительно сложнее: сатана принимает вид ангела света
и Христу противостоит антихрист. И как антихрист похож на Христа, так и язык Церкви,
«как и все подлинное, имеет своего темного двойника в лице тех и того, кто и что, прикрываясь церковными символами и знаками, живет и работает по правилам и законам мира сего. Это язык многих официальных структур, язык окриков и приказов, прещений и наказаний, язык смирения других и личной гордыни, язык стяжательства и властвования, тоталитаризма, национализма и цезарепапизма, обскурантистского фундаментализма и секуляристского модернизма, язык ненависти и страха, всякой лжи, клеветы и беззакония, отступничества и предательства Христова Духа, служения сразу многим господам, как и всем идолам и грехам» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).
Правда, время антихриста нельзя рассматривать только с отрицательным знаком — это и время зрелости Церкви, то есть те «последние времена», «последние дни», в которые Церковь, собственно, и существует как таковая, и это, в конце концов, время победы Христа, убивающего антихриста духом уст Своих
.
Почему же церкви все-таки бывает необходим сакральный язык? Восполнением чего является здесь опора на внешнее? Что и от чего он защищает?
Служение Ветхого Завета есть «служение буквы». Апостол Павел говорит в связи с этим, что у иудеев при чтении Закона остается неснятым покрывало
, которое лежало на лице Моисея, когда он спустился с горы Синай. Другими словами, в Ветхом Завете (как и в ветхозаветные по духу времена существования церкви уже новозаветной) буква Писания — это запертая сокровищница, и приверженность букве есть поэтому вполне справедливое опасение «с водою выплеснуть и ребенка». Так, например, сохранение в церковной практике древних богослужебных чинов, буква которых давно не соответствует реальной церковной практике, можно считать только благом. Ведь во многом именно благодаря тому, что хотя в церкви уже веками крестили практически только одних только младенцев (как будто это и вправду аналог обрезания!), церковь сохранила полный чин крещения взрослых, мы можем не только знать, но и восстановить в правах ту церковную истину, что в таинство крещения входит и оглашение взрослых, состоящее из нескольких этапов и т.п. Другое дело, что настаивать теперь, что «сундук» этот должен быть закрыт во веки веков — по меньшей мере странно, ведь «если что-то скрыто, то лишь для того, чтобы открыться», и наступает время, когда этот «сундук» можно и нужно открыть.
Подобно этому устроен и сакральный язык. Только что же сберегается в «сундуке» букв и слов этого языка? Ведь если мы избавимся от сундука, то не лишимся ли мы и его содержания?
Ответом на этот вопрос, возможно лежащий и в основе многих наших проблем и споров, на конференции стал доклад владыки Серафима (Сигриста) «Слово. Безмолвие. Литургия». Он напомнил, что подлинная речь состоит не только из слов: скрытым, но реально присутствующим элементом подлинной речи является тишина, безмолвие — подлинное слово рождается в безмолвии и хранимо тишиной:
«Хасиды говорят, что Бог написал Закон черным огнем по белому огню и что в конце концов будет открыто, что истинный Закон содержится в белом огне не меньше, чем в черном…» «Возвещение и прославление Слова должны находить свое разрешение в Безмолвии… Для того, чтобы Безмолвие смогло стать вместилищем Откровения, оно должно обрести свою собственную реальность, а не просто быть отсутствием звука» (о. Джон Брек)».
Если следовать такому пониманию, слова сакрального языка, этот «черный огонь», скрывают, до поры до времени, «белый огонь», т.е. изначально содержащееся в нем Безмолвие, как раз и обретающее в языке Церкви собственную реальность, собственное «звучание». Что же это за безмолвие, какова его «собственная реальность» и чем оно отличается от нашего обычного, не-молитвенного молчания, которое, как отметил докладчик, в отличие от Божьего Безмолвия, исполненного Духа и Света, часто основано на осознании потери, бессилия, смерти и глубоко пронизано тьмой?
Конечно, мы знаем, что в исихазме, например, истинное безмолвие тождественно и есть другое имя созерцания (вспомним, что св. Григорий Палама, защищая «священнобезмолвствующих», защищал именно их опыт созерцания нетварного Света Славы Божьей). Эта аскетическая и мистическая традиция еще раз напоминает нам, что подлинное слово хранимо содержащимся в нем изначальным молчанием, в котором оно только и обретает свое звучание (ср., например, Прем 18: 14–15), но и само это молчание, в свою очередь, не только хранимо словом, но и достигается словом. Не сохранишь тишины и мира, просто замолчав (или промолчав), как и просто замолчав не достигнешь той созерцательной тишины, в которой только и рождается подлинное слово. Только само слово, исполняясь, может разрешиться в безмолвие, а в подлинное Безмолвие мы вступаем тогда, когда слово исполняется Словом.
Но в своем докладе епископ Серафим призывал нас взглянуть на эту проблему с новой, во многом непривычной точки зрения:
«Хотя наша христианская традиция знает множество размышлений о молчании и личной молитве (в восточной традиции это составляет сердцевину исихазма), кажется, почти ничего не написано о значении Безмолвия как вместилища для Слова в молитве литургической и особенно в служении Евхаристии, являющейся самым главным выражением нашей молитвы».
Эти слова епископа Серафима свидетельствовали, что совсем не случайно наше время евхаристического возрождения сопровождается одновременным обращением к опыту исихазма и богословию Григория Паламы: мы словно чувствуем здесь какую-то тайну, какую-то проблему и задачу, которые нам жизненно необходимо разрешить, — как будто мы призваны распространить исихастский опыт общения с Богом на наше евхаристическое общение — с Богом и друг с другом…
Какую же реальность может обрести безмолвие в Евхаристии?
В своем докладе преподаватель Свято-Филаретовской высшей школы Д. Гзгзян напомнил, что сам человеческий язык уже основан на свободе и доверии человека, который, говоря на языке, не передает свои мысли в «чистом виде», но пропускает их через слово, т.е. нечто внешнее мысли, позволяющее ему высказываться в ту меру открытости и откровенности, в которую он хочет и считает допустимым, но и оставляет собеседнику творческую свободу в их восприятии:
«Не случайно язык называется средством общения, а не средством навязывания — и Гумбольдт не случайно поэтому назвал процесс общения языкотворчеством».
Но эта свобода, даруемая языком, в то же самое время основывается и на заложенном в языке доверии человека к человеку, поскольку свобода и творчество предполагают ответственность, ведь «пока я говорю, я заставлю чужое сознание работать», а язык позволяет человеку и просто говорить неправду, и выдавать бессмыслицу за истину. Об этих свободе и доверии, неотъемлемых от человеческого общения, заложенных во всяком естественном языке, говорило уже само название этого доклада: «Двусмысленность языка — средство скрывать и средство открывать», — через слово человек высказывает себя, но уже само высказывание в слове говорит о возможности молчания, и всякое высказывание человеком самого себя в то же самое время только подчеркивает то, что в глубине своей он остается тайной:
«Язык не только мертвый продукт, но и энергия… живая деятельность, которая преобразует поток мыслей в речевую последовательность, понятную собеседнику» (Вильгельм фон Гумбольдт). Энергия преобразования, трансляции мыслей другому человеку… — здесь видно именно благоговение перед тайной, желание ухватить то, что можно ухватить, чтобы подчеркнуть то, чего сделать нельзя».
Таким образом слово, язык, с одной стороны, избавляет людей от необходимой зависимости друг от друга, но в то же время и по-новому соединяет их в свободе, доверии и ответственности.
Здесь нельзя не заметить, что исихазм только доводит эту антиномию языка, это напряжение между откровением и тайной, словом и безмолвием, до высшей точки. Паламитский догмат о том, что Бог полностью познаваем в Своей Энергии, оставаясь в то же самое время полностью недоступным в своей Сущности, свидетельствует именно об этом: полнота высказанности, т.е. творчески-свободного доверия к другому, открывает и глубину тайны и непостижимости собеседников, открывает другого как подлинную святыню, а говоря на популярном с некоторых пор богословском языке — глубину и свободу личности.
Ведь в исихазме безмолвие-созерцание есть плод словесной молитвы и понимается здесь как исполнение слова, как точка, когда слова заканчиваются и переходят в безмолвие, когда другой полностью открыл и отдал себяЭто вполне согласно с библейской традицией, для которой, как замечено еще Оригеном, история — это слышание («Слушай, Израиль!»), а эсхатология (т.е. время Нового Завета) — видение: И узрит всякая тварь спасение Божие
(Лк 3: 6) (и запрет изображать в Моисеевом Законе связан именно с тем, что при заключении Завета никого не видели
(см. Втор 4: 15)). Это понятно — слово Божие в Ветхом Завете как, прежде всего, обетование или повеление, свидетельствует о существенной неполноте настоящего, а значит, и сокрытости полноты Истины. Наоборот, видение, созерцание свидетельствует о наступлении эсхатологической полноты, исполнении слова. Израиль призван к слушанию и слышанию слова Божьего, от исполнения или неисполнения которого зависит перспектива грядущего видения Бога. И вот наступает день, когда апостол возвещает исполнение слова в Слове и наступление последних времен: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что мы созерцали, и руки наши осязали, — о Слове жизни, — и жизнь была явлена, и мы увидели…
(1 Ин 1: 1–2).: через слова молитвы монах-исихаст собирает себя, или, по слову свт. Григория Паламы, «возвращает себя целиком самому себе», но только для того, чтобы, обретя себя, теперь «исступить из самого себя» навстречу Тому, Кто «тоже исступает вовне Самого Себя» в Слове, в снисхождении к человеку, и так, «весь принадлежа Богу, он видит Божью славу и созерцает Божий свет, совершенно недоступный чувственному восприятию как таковому»О связи слова и созерцания в исихастской традиции, о понимании в ней созерцания как исполнения слова, но уже в связи связи с чтением Священного писания, ср. следующее наблюдение иером. Илариона (Алфеева) в его книге «Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание» (М., Крутицкое Патриаршее Подворье, 1998 г.): «… Чтение Писания становится источником мистического вдохновения. Мы можем выделить несколько ступеней, по которым, согласно Симеону, человек поднимается на высший уровень постижения Писания. На первой ступени следует читать текст Библии, обращая внимание на «слова и их сочетания», то есть пытаясь понять буквальный смысл книги. На следующей ступени человек должен прилагать текст Писания к самому себе и исполнять написанное так, как если бы оно было обращено к нему лично. Чем точнее соблюдается Евангелие в жизни человека, тем глубже постижение им «скрытого» смысла Писания. Наконец человеку является Сам Господь и благодатью Святого Духа через приобщение к божественному свету он становится gnwstikТs, то есть получает полное понимание и совершенное знание мистического смысла Писания (с. 77).. В этом двойном акте возвращения к себе, т.е. собирания себя, и отдачи себя, вручения себя другому, соединяются два значения понятия слова: греческий «логос» — от глагола «легейн» со значением «собирать», и библейское «слово» как повеление и личное обетование, которое всегда имеет жертвенный характер, — поэтому и исполнение слова Божьего в Его Слове, Которое, по слову Писания, являет Бога, есть отдача Богом того залога, который лежит под Его словом-обетованием: Ибо Бог, давая обещание Аврааму, так как никем большим не мог поклясться, поклялся Самим Собой
(Евр 6: 13).
Таким образом, если мы хотим, чтобы в нашей Евхаристии «безмолвие обрело свое собственное звучание», мы должны думать о том, чтобы в ней могло реализоваться подобное личностное общение не только с Богом, но и друг со другом. И именно здесь мы и встречаемся с проблемой сакрального языка. Да, сакральный язык затрудняет личностное общение, но он делает это не «со зла». Он оберегает человека от полноты реализации свободы и доверия именно потому, что знает, чем это грозит, какие подлинные, а не придуманные опасности осквернения и развращения таятся здесь для человека. Если же мы хотим служить Богу в Евхаристии не на сакральном, а на подлинном языке новозаветной Церкви, мы должны понять, что эта полнота свободы и доверия в церкви — Богу и друг другу — предполагает и взаимную ответственность — ответственность за хранение сокровенной тайны друг друга «не словом и языком, но делом и истиной», что предполагает общину и, в действительности, просто невозможно вне общины.
Именно к такому осознанию и подводил нас епископ Серафим:
«Евхаристия, восполняющая таинство Крещения, — это принесение нашей жизни, возвращение ее Жизни божественной. Когда мы произносим слова молитвы, мы также отдаем нашу жизнь, возвращая слово Богу (от Которого мы его получили) и вступая в молчание, которое представляет собой наше принятие смерти, отдачи нашей жизни Богу в уверенности, что Он возвратит Жизнь… И затем Бог возвращает нам жизнь, заменяя наше слово на Свое Слово и, таким образом, сущностью Литургии является обмен слова и молчания, нашего слова и нашего молчания — на Божие Слово, исходящее из Тишины, исполненной Воскресения… обмен жизни и смерти. Из этой первичной структуры Литургии вытекает, что противоречия индивидуумов, выявляющиеся когда мы говорим из нашего личного молчания (выстрел сквозь тьму), разрешается в том Слове, которое произносится из истинной Тишины, и тем самым, в Литургии создается Община, делающая возможным для нас высказывание слова из молчания. Когда мы осознаем эту глубину Тишины, из которой возникает молитва Литургии, мы постигаем также (не только в теории) силу Воскресения Его
(Флп 3:10), составляющую ее сердцевину. По словам св. Исаака Сирина «Тишина — это таинство будущего века»».
Действительно, уже в этом веке мать Мария (Скобцова) говорила, что мистика Евхаристии, которая есть истинное Богообщение, должна быть существенно восполнена мистикой человекообщения, которое есть другая форма того же Богообщения, т.е. после-литургическим продолжением в христианском общении жертвенного служения Евхаристии, этой «милости мира, жертвы хвалы», когда человек «приобретает то, от чего отлучил себя, вновь, в любви, в подлинном Богообщении». Биограф матери Марии прот. Сергей Гаккель, выступавший на конференции с небольшим сообщением о ней, свидетельствовал со слов людей, хорошо знавших ее лично, что мать Мария, хотя и много потрудилась в области языка церкви — и языка богословия, и языка благочестия, и языка церковной публицистики, и языка христианской поэзии и живописи (этой стороне ее жизни на конференции был посвящен специальный доклад Т.В. Емельяновой «Обновление поэтического и иконографического языка в служении матери Марии»), сама прежде всего жила в области, располагающейся за пределами языка. Только эта ее область безмолвия, исихия, была, конечно, связана не с расхожими представлениями о «тихом отшельничестве», но именно с энергией, с динамичной силой, с «исступлением из себя» ради Бога и ближнего, т.е. была понята ею прямо по-паламитски (здесь стоит вспомнить, что и сам защитник «священнобезмолвствующих» отнюдь не всю жизнь прожил отшельником)!
Эту же тему в своем докладе «Язык Церкви — язык общения», посвященном изменению в современной церкви языка аскезы, развивал архим. Виктор (Мамонтов). По его мнению (а надо заметить, что это мнение особо ценно, поскольку является мнением прежде всего вполне традиционного монаха), если аскеза предыдущей эпохи была аскезой индивидуальности, «замкнутой монады, ищущей спасения» (Бердяев), — «аскезой силы, аскезой духовного богатства, аскезой трезвого расчета, аскезой достижения, аскезой взрослости», аскезой овладения собой, то есть, говоря словами Григория Паламы, аскезой возвращения человека к себе через удаление от мира, аскетические подвиги и усиленную молитву, то теперь эта важная, но все-таки подготовительная стадия сменяется тем, ради чего она только и нужна, — «аскезой немощи, нищеты, доверия, аскезой отдачи и дара, аскезой детскости», т.е. аскезой выхода из себя навстречу другому, где человек, «идя к ближнему, отрывает себя от себя», аскезой отказа от силы ради принятия себя из рук другого, т.е. аскезой общения и, значит, общины:
«Мы должны поставить вопрос в нашей церкви (к этому давно уже подвела нас жизнь) о новой аскетике — аскетике общины. Язык этой аскетики — любовь».
Но в то же самое время эта аскеза не есть нечто чуждое и «новое» в Православии, но, возможно, именно распространение исихастского опыта личностного общения с Другим в Любви и Свободе на общение друг с другом в Церкви, понятой и раскрывающейся как община:
«В этом добровольном отказе от главной цели аскетики и от самой аскетики — вершина аскетики — любовь».
В свете этого мы можем и должны вернуться к мысли епископа Михаила (Грибановского) о необходимости культурной подготовки, т.е. школы, для «существования новозаветного народа Божия» и по-новому взглянуть на те процессы, которые происходят во взаимоотношениях языка церкви и языка мира, в частности на секуляризацию, в которой мы привыкли видеть только зло, и о необходимости преодоления которой было уже сказано в начале этой статьи. Ведь если церковь, подобно возрастающему в силе и накапливающему духовные богатства аскету, и овладевала всем богатством языков мира, освящая их и преображая их — языком власти, языком философии, языком искусства, языком межличностного общения, внося тем самым свой «цемент» в уже готовый разложиться мир, и тем самым спасла его, то только ради того, чтобы однажды «исступить из себя» и, отпустив мир на волю, самой остаться в немощи и в этой немощи возвестить вечно новую и иную, «бесполезную» для мира, весть о божественной Любви, явившей Себя на Кресте и Воскресении. И если когда-то церковь, следуя примеру апостола Павла, старалась для всех стать всем, дабы во что бы то ни стало спасти хотя бы некоторых
, то теперь мы скорее призваны в первую очередь не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого
. (Не случайно церковь сейчас так пристально обращается именно к проблеме языка — ведь хотя эта проблема, как мы отмечали в самом начале статьи, и воспринимается в нашем веке прежде всего как философская, она не вносит в Церковь что-то внешнее и дотоле незнакомое ей, как это было в начале Константиновской эпохи со словом «единосущие», но, как мы видим, наоборот, неожиданно возвращает ее, на исходе этой самой эпохи, к самой себе).
Возможно, именно к этому осознанию нас подводила конференция:
«Язык Церкви — это язык Логоса, необычного, «имеющего силу убеждать и побеждать» (с. 3), это язык Божией Любви и Божией Славы; это язык подлинного Христианства. В нем находит себя сама эта Любовь через Веру и Надежду как наша высшая методологическая точка отсчета. Но эта «искомая методологическая точка отсчета является одновременно подлинным богословским kairos (т.е. временем) нашего века: если подобная вещь его не тронет, то, думаю, — пишет Бальтазар, — вряд ли ему суждена встреча с подлинным Христианством в его первоначальной чистоте» (с. 6)» (доклад свящ. Георгия Кочеткова).
По словам игумена Иннокентия (Павлова) (Москва), выступившего на конференции с сообщением «Язык Церкви в свете керигматического богословия», именно в этом и заключается значение того кризиса церкви и ее богословия, который сейчас переживается во всем мире. Ведь греческое слово «кризис» означает «суд», и это действительно Божий суд — но не в смысле осуждения: «речь идет о рассуждении, о том, чтобы оценить положение церкви с позиций неизменной божественной вести».
Распространяя мысль о. Виктора об изменении языка аскезы на весь язык церкви, можно сказать, что само время говорит нам, что церковь призвана сделать то, чего не смог сделать богатый, в том числе и духовно, евангельский юноша, которого «полюбил Иисус»: Одного тебе недостает: иди, все, что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровище на небе; и приходи, следуй за Мною
(Мк 10: 21), —
«Христос как бы говорит ему: «Я не хочу ничего у тебя отнять, Я всегда только даю, и сейчас Я стою пред тобою с даром, но Я не могу его вручить тебе, потому что твои руки заняты твоим богатством»… «Но младенцами во Христе не становятся, ими рождаются…»»
И внешнее бессилие церкви в тех областях, где на протяжении истории она была столь сильна, не должно нас пугать — ведь именно это нам и обещано: Любовь никогда не кончается. А пророчества? Они будут упразднены. Языки? Они прекратятся. Знание? Оно будет упразднено
(1 Кор 13: 8).
Возможно, с этим евангельским требованием связан и кризис современного церковного и вообще христианского искусства. Ведь надо понимать, что если, как уже отмечалось, язык Церкви «не просто божественен, но богочеловечен», то этим он отличается не только от любого собственно сакрального, религиозного языка, но также и от языков искусства и философии, которыми он часто пользуется, но с которыми, нельзя забывать, никогда не совпадает. Ведь своеобразная священность двух этих языков защищена от осквернения тем, что они принадлежат, что называется, избранным единицам по рождению, то есть всегда предполагают некий род посвященного, жреца. Но это опять-таки только образ подлинной избранности. Язык Церкви, язык избранных Богом, принадлежит всем членам Церкви — апостол Павел призывает всех христиан достигать этого языка также, как он призывает всех достигать любви: Стремитесь к любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать… Я хочу, чтобы все вы говорили языками, но еще больше, чтобы вы пророчествовали
(1 Кор 14: 1, 5). («Как в связи с этим нам здесь не заметить, что лучше всего овладевают языком Церкви ее святые, и особенно мистики Любви, поскольку именно они более других и сами пламенели в своей жизни этой любовью» (доклад свящ. Георгия Кочеткова)). Это особая избранность, избранность всех, осуществляемая через любовь, которая, по слову апостола Павла, достигается, определяет такое свойство языка Церкви как личностность. И именно личность, возможная в церковном общении, и есть та подлинная святыня, которая приходит на смену любой внешней сакральности.
Поэтому разговор о церкви как общине совершенно не случайно зашел на этой конференции, и не был просто данью тому направлению церковной жизни, по которому следует Сретенско-Преображенское братство и поддерживаемая им Свято-Филаретовская высшая школа. Ведь речь идет не просто об общине, но о кафолической общине, где нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного
, куда входят люди всех национальностей, сословий, профессий, возрастов и языков. Это говорит нам, что возможно, мы присутствуем при изменении самого понятия и представления о кафоличности, всеобщности Церкви. Если в еще столь недавние времена церковь присутствовала в мире через освящение его языка — языка государства, искусства, брака и т.п., то теперь наоборот — культура входит в церковь, освящается и преображается в ней через личность человека, входящего в кафолическую общину и приносящего в жертву свои богатства ради являющейся в ней Любви. И сама Церковь присутствует в мире уже не внешним образом — через те или иные институты или культуру, но через своих членов, несущих в себе Церковь. Поэтому здесь хочется вспомнить то, что уже говорилось по поводу предыдущей конференции: если церковь хочет преодолеть секуляризм, то она должна преодолеть его прежде всего не вовне, но в себе, то есть снова явив собой чудо Пятидесятницы — и определив свои границы, и открыв себя миру. (Как в связи с этим, слушая доклад о. Христофора Суттнера о проблемах межконфессионального общения, нельзя было не вспомнить утверждение Владимира Соловьева о том, что различия богословских языков разных конфессий восходят прежде всего не к культурным или историческим особенностям бытия той или иной церкви, но к именно к самим личностям апостолов Петра, Иоанна и Павла, и, следовательно, причины схизмы лежат не в тех или иных различиях богословского языка, но в потере личностной связи и даже просто личностного, пророческого измерения церковной жизни. Как раз на прошлогодней конференции «Живое предание» много говорилось о том, что путь к решению проблемы разделения церквей, и в частности, преодоления различий богословских языков, лежит прежде всего через восстановление личностного общения, актуализирующего пророческое измерение духовной жизни).
Надо сказать, что утверждая необходимость культурной работы и школы для осуществления полноты церковной жизни, епископ Михаил (Грибановский) ясно представлял, куда ведет эта полнота:
«Когда Церковь, оставшаяся носительницей истинного духа Христова, провозгласит на весь мир великие речи Господа о таинственном и чисто духовном значении Его Личности, сказанные Им в Капернаумской синагоге, они, как и тогда, вызовут соблазн, непонимание и ропот. Как и тогда, искатели и любители земного довольства и комфорта отхлынут от такой странной, непонятной и непрактичной Церкви, и Христос останется лишь с избранными. Как и тогда, малая, но избранная Церковь будет готовиться Господом к тому завершительному акту земного человеческого существования, который кончится победой Его над, по-видимому, совсем уж было восторжествовавшим миром тления и себялюбия. Много ли, мало ли будет избранных, мы не знаем, но знаем, что нам не должно ничем смущаться. Все, что даст Мне Отец, ко Мне приидет; и приходящего ко Мне не изгоню вон
(Ин 6: 37)» (Над Евангелием, М., Сатис., 1994, с. 126).
Поэтому не случайно конференция заканчивалась докладом свящ. Иоанна Привалова ««Далекий путь» как путь по спасению», посвященным книге архимандрита Сергия (Савельева) «Далекий путь»См. Архимандрит Сергий (Савельев). «Далекий путь. История одной христианской общины». М., Даниловский благовестник, 1998 г., где документально описан путь его общины, родившейся в России в 20-х гг., прошедшей через все внешние и внутренние гонения и трагедии нашего века и сохранившейся до сих пор. Доклад о. Иоанна, в котором, как нетрудно догадаться из его названия, эта книга сравнивалась с другой, очень известной книгой — «Путь ко спасению» свт. Феофана Затворника, стал как бы жизненным свидетельством и подтверждением того, о чем говорил о. Виктор (Мамонтов). Анализируя изменение в языке церкви понятия «пути», на неотрефлектированность которого в современном православии сетовал на одной из предыдущих конференций А. Кырлежев, и сравнивая две эти книги, первая из которых посвящена как раз индивидуальной аскетике, а вторая — аскетике и мистике общины, докладчик пришел к выводу, что если первая — это действительно еще только «путь ко спасению», то вторая — сам путь спасения, вне которого сейчас уже теряется перспектива духовной жизни (недаром о. Сергий, остро чувствовавший, что его опыт — это новый этап единого Пути, утверждал, что уходить из общины в монастырь, т.е. возвращаться по нему вспять, — большой грех).
Об этом как раз и свидетельствовало то, что в жизни общины о. Сергия мы вновь встречаемся с подлинным языком Церкви. Действительно, у членов этой общины, пытавшихся осмыслить собственный опыт, сложился свой, очень интимный язык, но ключевыми словами в нем неожиданно оказались те слова, которыми в Писании характеризуется сам язык Церкви, как он начал звучать на Пятидесятницу. Ведь эта новая, «Христова» жизнь в Его Церкви, которую вели и ведут члены этой общины, осознавалась ими одновременно и как иноческая, «иная жизнь» — иная миру и его стихиям, но в то же самое время, в этой своей инаковости, — и как «родная» («родная» — значит «Христова»», — сказал как-то о. Сергий).
О том, что именно на этом «далеком пути» построения общинной жизни мы вновь встречаемся с подлинным языком Церкви как чудом «продолжающейся Пятидесятницы», которая, утверждая церковь как внутреннюю, закрытую реальность, имеющую свои четкие границы, одновременно (и тем самым) открывает ее миру, свидетельствовали и приведенные в докладе слова о. Сергия, не вошедшие в книгу:
«Еще я скажу тебе одну тайну. Свято любя друг друга, мы не замыкались в себе. Мы были неразрывно связаны со всеми людьми всего мира, и со всяким дыханием Божиим. Со всею природой. Со всею вселенной. Она открылась нам храмом Божиим, а человек в ней — лучшим Его созданием».
Такая внутренняя верность Богу и друг другу, и в то же самое время радостная открытость к миру и людям, сохранявшиеся у членов этой общины даже в условиях рассеяния, гонений и сталинских лагерей, как раз и свидетельствовали о том, что внутренняя святыня их христианской жизни более не нуждалась ни в какой внешней защите, и в том числе — в «сакральном» церковнославянском языке, о чем неоднократно говорил и писал о. Сергий.
Доклад о. Иоанна был замечателен еще и тем, что в нем было показано, как на этом «далеком пути» общинной жизни язык Церкви начинает раскрываться практически. Он рассказал, как еще в начале своего служения обратил внимание на то, как верующие — и клирики и миряне — бывают равнодушны к чтению Апостола, чего никогда не бывает при чтении Евангелия. Почему? Обращенные прежде всего к общине, слова этих книг, действительно, как бы скрыты за неким покрывалом для индивидуалистически настроенного прихожанина (в связи с этим вспомнилось, что еще в прошлом веке было принято дарить Новый завет без Апокалипсиса — насколько страшной казалась эта, вообще говоря, радостная книга для синодальной церкви, так же страшна она для некоторой части современной церкви, «радостная весть» которой часто сводится к возвещению «Антихриста в Москве»). Наоборот, для того, кто обращается к опыту общины и начинает жить им, это покрывало снимается и значительная часть Нового завета вновь обретает плоть и кровь, а в его жизни появляется путь реального возрастания, который так часто отсутствует в приходских храмах, где человек, «обреченный на тотальную новоначальность», может из года в год исповедовать одни и те же грехи, без признаков какого-либо реального роста, а священник, в свою очередь, из года в год произносить одни и те же проповеди.
Конечно, это лишь начало этого пути. Как уже отмечалось, если «язык Церкви есть продолжение Пятидесятницы», то он ставит перед нами вопросы о церкви и сам непосредственно участвует в строительстве Церкви. И надо осознать, что даже самые простые практические вопросы о языке церкви решаются только на этом уровне. Например, тот самый вопрос, с которого все началось, — о богослужебном языке. Если мы отказываемся от «священных одежд литургического языка», то как нам избежать его осквернения? Представьте, например, что заходите вы в наш обычный храм, часто полный «захожан» и людей просто случайных или даже пришедших впервые и на пять минут, а там священник во весь голос произносит анафору св. Василия Великого по-русски: «Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа Святаго причастие», — но при этом это никак не выявляется, ведь и причащаются не все, а те, кто причащался, покидают храм, как правило, оставаясь в своей жизни так же далеки друг от друга, как и прежде. Не будет ли это «произнесением имени Божьего всуе», т.е. настоящей профанацией? И если мы хотим, чтобы святые слова наших молитв не оставались праздными, т.е. не подтвержденными делами веры, хотим, чтобы они правильно воспринимались верующими и разрыв между верой и жизнью сократился, а не увеличился, мы должны задуматься о том, как нам преодолеть индивидуализм нашей духовной и церковной жизни. (Ведь пока мы используем славянский «сакральный» язык, этот разрыв, хоть и велик, но не так страшен: непонятное богослужение создает некий «молитвенный настрой», а там уже каждый молится о своем. Если же слова молитв станут для всех доступны и понятны, это будет уже не столь безопасно). Тем, кто ревнует о понятности богослужения и его действенности, надо понять, что даже создав самый «идеальный» приход, этой проблемы не решишь: даже если в храме будут находится сплошь постоянные и даже как-то наученные прихожане, то все равно такое богослужение поставит вопрос о реальной общине, о реальном совместном служении, иначе оно все больше и больше будет становиться профанацией (как многие в последнее время уже и убедились в этом на опыте).
Наличие же реальной общины, реального единства, неизбежно поставит и другие вопросы. Прежде всего, это вопрос о том, где евхаристическое Богообщение может быть продолжено и восполнено человекообщением, т.е. вопрос о восстановлении, например, агап. Это и вопрос о чтении Евангелия в церкви как общине, а не просто в евангельском кружке (здесь важно понять разницу — евангельский кружок — не церковь, община — уже церковь, пусть и не всегда в полноте, и в ней чтение Евангелия — это уже таинство Слова, собирающее церковь и претворяющее ее в Себя: ср. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось
(Деян 6: 7)). Это и вопрос о месте догматической работы, поскольку где есть попытка реального единства и совместного служения, там неизбежно серьезное и не схоластическое обращение и к христологии, и к тринитологии, и к пневматологии, и к экклезиологии и т.д.
Это значит, на мой взгляд, прежде всего, что встает вопрос о церкви как о месте, где должны звучать иные и новые языки.
Вот уже две конкретные проблемы. Где в нашей церкви место для звучания того и другого языка? Где место проповеди неверующим? Каков должен быть ее язык? Чем он должен отличаться от языка проповеди уже непосредственно в храме?
А где место другому? В начале статьи было сказано, что происходившее в годы между двумя первыми Вселенскими соборами есть новая форма того же самого процесса. Хорошо, пусть Карташев назвал то время «самым бессоборным в истории церкви», т.к. в этих соборах участвовали только епископы, но ведь они все-таки были, эти соборы! И мы неизбежно встаем перед этой проблемой, когда задумываемся о том, как вернуть в реальную жизнь церкви догматический язык. Как будет теперь выглядеть говорение на новых языках и их истолкование? Не должно ли оно вернуться в евхаристический контекст, как это остро почувствовал о. Сергий Булгаков, читавший свои лекции по догматике сразу после литургии? Не пора ли нам наконец-то исправить историческую ошибку и вновь разделить предкрещальный Символ веры и догматику? Как это сделать?
Сейчас в некоторых поместных церквах начинает подниматься проблема лекционария. Конечно, прежде всего все смотрят на уже существующий опыт католической церкви, расширившей его цикл до двух-трех лет. Но может быть проблема глубже?
Мы любим говорить, что синоптические Евангелия были написаны не в последнюю очередь с целью катехизации. Однако начало Евангелия от Луки говорит прямо об обратном: Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен
(Лк 1: 3–4), т.е. катехизирован. Где же место чтения такого Евангелия?
Мы любим повторять, например, и то, что изначально Евангелие было составлено из перикоп, читавшихся в собрании за один раз. Но ведь все Евангелия имеют и свой план и свою структуру, которая при таком чтении просто не воспринимается. Каково ее место в контексте церкви?
Но если в этом случае с синоптиками еще как-то можно смириться, то многие знают, как режет по сердцу то, что делает наш лекционарий с Евангелием от Иоанна, ведь это же, простите, прямое насилие над текстом!
Апокалипсис у нас в храмах вообще не читается (по Уставу он должен читаться на всенощных Великим постом, но и это было бы трудно назвать церковным чтением). Может быть, это и правильно — но где-то ведь он читаться должен! Это же ведь не просто книга для частного чтения, она, может быть, как никакая книга Писания прямо связана с Литургией!
Язык Церкви ставит перед нами и вопрос о самой Литургии, поскольку если в Церкви вновь зазвучат иные и новые языки, которые устроены, как мы знаем из посланий апостола Павла, уже не по двойческому (проповедник-слушатель), но по тройческому принципу (говорящие, толкующий и слушатели), что предполагает участие всей общины, то неизбежно должно измениться и положение предстоятельствующего на Евхаристии, а с ним — и ее форма.
Таким образом, вопрос о языке Церкви неотрывен от вопроса о самой церкви, и о каком бы конкретном языке церкви мы не говорили, мы везде сталкиваемся с этой проблемой, даже там, где не требуется никаких реформ. Например, А. Кырлежев говорил, что церковь должна войти в полный объем вселенского языка. Но ведь дело не в том, чтобы некие богословы или пастыри прочли те или иные книги. Это снова ставит перед церковью требование вновь стать кафолической, т.е. «имеющей отношение до всего», но для этого, для того, чтобы иметь свободу такого отношения, она должна вновь обрести собственную реальность и перестать быть секуляризованной, т.е. растворенной в этом самом «всём».
Я напомню уже даже самую простую проблему, совершенно далекую от богословия. В своем докладе «Язык Церкви и гражданская позиция христианина» А.Б. Зубов сказал, что нужно найти новый язык, язык покаяния, на котором церковь могла бы обратиться к обществу. Но при этом очень странно прозвучало, что покаяние, столь необходимое всем нам после того, что происходило и происходит в нашей стране и в нашей церкви, нужно именно общественное, но церковное покаяние не нужно. Он аргументировал это тем, что церковное покаяние, когда-то изошедшее от патриарха, не обрело достаточного резонанса в церкви и обществе именно потому, что было его личным покаянием.
Рискнем предположить, что дело не в этом. Ведь призыв к покаянию есть не только и даже не столько призыв к признанию вины и очищению, но призыв к освобождению, к свободе. Но как же может найти такие слова наша несчастная церковь, и тем более предложить их обществу, если ее собственная жизнь на всех уровнях пронизана страхом и несвободой? Как она может это сделать, если боится даже говорить своим языком, если ее собственный внутренний язык сейчас — это язык или страха и компромисса, или «чириканье» из известного анекдота, если на этом языке в подавляющем большинстве случаев говорят не только гонители, но и сами гонимые? Замечательно, что если в начале своего исторического пути церковь имела дерзновение делать центральными для своего языка слова, отсутствующие в Священном писании, то теперь церковь боится употреблять даже то, что в Писании есть! О. Виталий Боровой рассказал на конференции, как, составляя какой-то очередной официальный документ, он заплакал, поняв, что не может включить в него слова апостола Павла чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни
(Рим 6: 4), из-за того, что это непременно будет связано с обновленчеством! В такой ситуации что бы мы ни делали, на каком бы языке ни говорили, все наши слова будут вязнуть в пустоте. Для того, чтобы язык церкви мог быть языком покаяния или любви, он прежде всего должен быть языком свободы, о чем прекрасно говорил на конференции Н.А. Струве.
Итак, перед нами действительно «далекий путь» строительства Церкви и церковной жизни, путь, который перед нами открывает ее язык. Когда думаешь всерьез о перспективах этого пути, то невольно захватывает дух. Но нельзя забывать, что церковь может и не пойти по этому пути, но может и вообще отказаться и от выбора между принятием и отвержением, исполнением и неисполнением слова. В таком случае и произойдет уже не исторически обусловленная, а своевольная и пагубная сакрализация языка, когда именно само слово, которое по неверию и страху отказываются исполнять, пытаются сделать предметом созерцания. Духовный меч как бы вешается на стенку, покрытую дорогим ковром, свет, рассеивающий тьму, гаснет, и под покровом темноты неприятель беспрепятственно входит в священный град. В подобным образом функционирующем сакральном языке повторяется вавилонское смешение. Ведь если бы Вавилонская башня была построена, то произошло бы смешение неба и земли, небо было бы взято в плен, подверглось бы, по меткому выражению поэта, «аресту земли». Но именно это и делает сакрализация языка, когда ложное благоговение перед словом как бы берет его в плен, поскольку лишает его подлинного почитания — исполнения. Слова абсолютизируются, и Богу, пребывающему в Безмолвии, отказывают в месте. Таким образом, эта дурная сакрализация языка есть своего рода идолопоклонство, кумиротворение, поскольку в его основе лежит тот же обман — вступление в область созерцания до того, как слово будет исполнено, и предмет созерцания — Истинный Бог — явится во всей Своей Славе и Свободе, подчас страшной и невместимой даже для верующих в Него.
Тогда с церковью может произойти то, о чем и предупреждал нас в своем докладе еп. Серафим, обращаясь к пророчеству Исайи:
«Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так, что другим не остается места
(Ис 5: 8). Это может быть также сказано о словах, набегающих друг на друга без всякого промежутка. Потому что, хотя Безмолвие остается (как мы уже сказали) за и под словами, проблема заключается в том, что в таком способе молитвы отражается наше представление, что слова сами по себе и есть вся молитва. Из этого существенного непонимания вытекает в свою очередь абсолютизация словесной формы, может быть даже литургического языка, но в любом случае отчуждение молитвенного слова. Пророк Исайя продолжает, что те, кто приобретает собственность так, что не остается места, останутся в ужасающем одиночестве. Мы можем аллегорически, но точно сказать, что те, кто абсолютизирует форму, останутся в пустых церквах в одиночестве своего ложного абсолютизма. В то же время восстановление понимания Тишины как вместилища Слова открывает путь к освобождению от этого неправомерного абсолютизирования, подобно тому, как в догматическом богословии апофатический принцип, — сам по себе являющийся богословием тишины, — освобождает нас от ложных противоречий в нашем понимании учения».
Было бы излишне об этом говорить, если бы подобное отношение к языку Церкви сейчас не только не встречалось, но и открыто не заявляло бы о себе! Именно в последнее время в связи с вышеупомянутой проблемой перевода богослужения появился удивительный тезис о созерцании литургического слова и о церковнославянском языке как об иконе православия. Наиболее яркую и остроумную за последнее время апологию этого тезиса представил на конференции Б.А. Успенский. Самое интересное в этом тезисе то, что при его защите пользуются особым значением для православия догмата иконопочитания, как бы его «развивая», но не замечая того, что в действительности объявлением языка — иконой этот догмат не только не развивается, но наоборот, уничижается и даже отменяется. Ведь когда мы молимся словами — икона перед нами и есть образ того «обретшего собственную реальность» молчания-созерцания, в котором звучит наше слово. Если же сам язык объявляется иконой, то икона становится излишней. Конечно, икона не совершенна без слова, без имени изображенного, но и само слово не достигает полноты вне безмолвия-созерцания. Не понимая этого, мы рискуем незаметно превратиться из православных в мусульман или в современных иудаистов, т.е. в представителей тех авраамитских религий, которых отвержение Слова привело к гипертрофированию слов!
Таким образом, завершая эти заметки о конференции, в которых, конечно, удалось отразить только небольшую часть того, о чем явно и сокровенно говорилось на ней, можно сказать, что прежде всего она подвела нас к более полному осознанию того, почему проблема богослужебного языка, на первый взгляд недогматическая и чисто пастырская, вызывает такие ожесточенные споры, доходящие уже до печально известного «Православие или смерть». И наверное, мы должны принять эти споры именно как попытку, пусть часто неумелую и неуклюжую, отстоять истину языка как области самой истины, области, где действительно решается вопрос о бытии самой церкви, а не просто о решении одной из ее многочисленных задач, истину языка, о которой мы редко задумываемся, но которая все-таки уже начинает раскрываться перед нами.
Поэтому, хотя конференция проходила в условиях все сгущающегося мрака в церковной жизни, она вдохнула надежду и стала подлинным духовным событием. Прежде всего потому, что поставив в центр своего размышления язык Церкви, она и сама стала для многих ее участников таким отсветом Пятидесятницы, в разноголосице которого каждый мог и расслышать что-то глубоко родное и близкое ему, и увидеть перспективы иного, к которому зовет нас Дух.
Не побоимся сказать, что конференция снова явила нам язык Церкви. Спросим еще раз — что это за язык?
Истинный язык, как говорил Хайдеггер, разбивает мир как разбивают сад. Ведь он правдив, а не лжив, он не скрывает реальность, но открывает ее. Данный человеку как его инструмент в со-творении мира, сотворчестве с Богом, он помогает ему исполнить все возможности добра и красоты, заложенные Богом в дарованном ему мире. Он подобен внесенному свету: он членит мир на вещи, но и соединяет их в одну картину, единый образ, в то, что называется предложением, пред-ложением мира — Богу и человеку, как предлагается жертва. Но имея дело с миром, язык одновременно выводит нас за его пределы, освобождает от рабства ему, зовет к новому.
Язык членит и человеческое общество — на свободных и независимых индивидуальностей, но он же, в силу изначально присущего ему потенциала свободы и доверия, соединяет их как личностей.
Язык Церкви может сделать подобное, если только мы не отступим от того пути, который он нам указывает. Он вносит свет, он выявляет различные стороны жизни церкви и мира, и, противясь всякому хаосу и смешению, отделяет их друг от друга, но он, будучи «языком красоты и порядка», и собирает их в единую картину, в единый образ. Он сообщает нам все дары, но он же и вдохновляет нас, умножив их, принести их Богу как жертву хвалы: «Твое из Твоего». Он зовет нас вперед — к новому небу и новой земле. Освобождая нас от необходимой зависимости друг от друга и от стихий мира, он зовет нас к свободному, личностному, жертвенному общению с Богом и друг с другом — в Любви. На языке Церкви мы говорим свое «да» Богу и Церкви, выходя за пределы языка туда, где через Христа — Слово Божие начинает быть виден духовный Свет — Свет Преображения, Свет Троицы, а в нём — неизреченной Доброты и Красоты лик Небесного Отца.
Международная научно-богословская конференция «Язык Церкви» прошла в Москве с 22 по 24 сентября 1998 г. Она стала 8-й в ряду традиционных конференций, посвященных актуальным проблемам современной церковной жизни, которые ежегодно проводит Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа. В этом году вместе со Школой организаторами форума стали журнал Академии наук РФ «Русская речь», журналы «Вестник РХД» и «Континент».
В конференции, проходившей в Большом зале московского Киноцентра на Красной Пресне и открывшейся приветственным словом старейшего иерарха Русской православной церкви архиепископа Михаила (Мудьюгина), профессора Санкт-Петербургской духовной академии, приняли участие богословы, филологи, философы, историки и культурологи, клирики и миряне из 13 епархий Русской православной церкви, а также из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Кореи, Латвии, Нидерландов, Польши, Словакии, США, Украины, Финляндии и Франции. Всего участвовало более 900 человек, в том числе около 30 клириков, а также представители Отдела внешних церковных сношений и Отдела по религиозному образованию и катехизации Московской патриархии и ряда духовных учебных заведений, многих других культурных и научных организаций, а также представители церковных и светских СМИ. Всего за три дня прозвучали 30 докладов.
Издательством Свято-Филаретовской школы предполагается издать сборник материалов конференции.