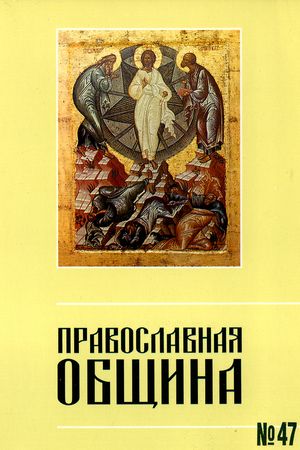Конференция «Единство церкви», или об истоках екатеринбургского «аутодафе»
Дело веры
Вскоре после печально известного инцидента — сожжения книг о. Александра Шмемана, о. Иоанна Мейендорфа и о. Александра Меня в Екатеринбурге и развернувшегося в связи с этим скандала газета «Радонеж» взяла интервью у А. Дворкина. Интервью называется «Аутодафе». У кочетковцев есть повод погреть руки» (см. «Радонеж», № 10 (75), июнь 1998 г., с. 8) и носит оно весьма странный характер — вместо того, чтобы проанализировать причины, приведшие к этому, к сожалению, уже не единичному случаю сожжения книг в России, он говорит:
«…К тому же все это совпало с запрещением в священнослужении священника-кочетковца. Устроитель этой акции, кем бы он ни был, даже не представляет себе, какой царский подарок он преподнес этим Кочеткову и всему неообновленческому лагерю. Они из кожи вон лезут, чтобы доказать свое родство с великими богословами русской эмиграции.
На самом деле — это известно любому непредвзятому читателю о. Александра Шмемана — кочетковские ссылки на него — самое настоящее надругательство над памятью великого богослова» и т.д. и т.п.
Та же мысль настойчиво проводилась и в статье прот. Валентина Асмуса «Трудности и недомогания Русской церкви», появившейся в следующем номере газеты. Правда, сначала о. Валентин утверждает, что ему «известно, что владыка Никон не распоряжался сжигать книги оо. И. Мейендорфа и А. Шмемана», а затем сразу переходит опять-таки к «главному»:
«Методика кочетковцев давно известна: когда православные люди возмущаются их варварскими новшествами, они начинают козырять определенным набором почтенных авторов, на которых ссылаются без всяких оснований как на своих учителей и предшественников» (см. «Радонеж», № 11 (76), июль 1998 г., с. 2).
Оба автора пытаются создать у читателя впечатление, что произошло какое-то малозначимое недоразумение, но как бы то ни было, виноваты все равно «кочетковцы». Но оба автора искажают действительность. Никакого недоразумения или «совпадения» не было — о. Олег Вохмянин был пожизненно запрещен в священнослужении именно за отказ проклясть «ереси» вышеупомянутых авторов, а вовсе не о. Георгия Кочеткова (см. Никита Струве. О «самопреследовании» в Русской церкви, «Вестник РХД», № 177 (I-II — 1998), с. 257, 267, 284–287, а также «Православная община», № 45, 1998 г. с. 123–124). Что же касается существа затрагиваемой проблемы, то мы можем обратиться к следующему свидетельству современных парижских богословов и церковных деятелей, которое мы находим в их письме патриарху Алексию II, где вполне адекватно (и при этом совсем не односторонне) отражены и преемственность деятельности о. Георгия по отношению к трудам знаменитых богословов, и их действительное отличие:
«Стиль и дух служения в общине отца Георгия Кочеткова могут показаться чуждыми особенно тем, кто не знаком с литургической практикой, широко распространенной в целом ряде православных церквей, и с богословскими трудами иереев Православной Церкви отцов Н. Афанасьева, А. Шмемана, И. Мейендорфа.
Если мы не всегда бываем согласны с некоторыми высказываниями отца Георгия, мы знаем, какую замечательную пастырскую и катехизическую работу он проводит среди своей паствы…» (письмо подписано деканом Свято-Сергиевского Богословского института протопресвитером Борисом Бобринским, профессорами о. Михаилом Евдокимовым, Оливье Клеманом, Николаем Лосским, Никитой Струве и другими (см. «Вестник РХД», № 177 (I-II — 1998), с. 259–260).
Теперь, сделав это необходимое разъяснение, мы должны спросить: в чем же дело? Почему А. Дворкину и о. Валентину Асмусу потребовалась так настойчиво доказывать, что «кочетковцы» и «парижское богословие» — совершенно разные вещи? Обратимся к истории.
Мысль эта впервые громко прозвучала четыре года назад на знаменитой конференции «Единство Церкви» и была едва ли не главным тезисом, который пытались доказать ее устроители и участники. Почему же именно тогда?
Восстановим контекст происходившего. В церкви поднимали голову фундаменталистские силы, и плоды их все возрастающего влияния давали о себе знать: сначала была проведена кампания по дискредитации имени о. Александра Меня (вспомним, что здесь не помогло даже прямое вмешательство патриарха, который какое-то время пытался запретить продажу брошюры, в которой очернялось имя о. Александра), а в конце 1993-начале 1994 г. о. Георгий Кочетков и его община были изгнаны из вновь открытого и восстановленного ими храма. Было понятно, что это только начало, что за этим ударом последуют другие, и значит, надо было срочно как-то реагировать. И вот вместо того, чтобы объединиться перед лицом этих сил и попытаться поддержать и защитить гонимых, отцы конференции, понимавшие, что и им угрожает опасность, решили поступить по другому. А именно — остановить начавшееся наступление фундаментализма на какой-то вполне определенной линии. Вот для того, чтобы четко обозначить эту линию, как бы вырыть траншею, через которую наступающие не смогли бы перейти, и нужно было отделить «кочетковцев» от Шмемана, Мейендорфа и их предшественников, верность которым всегда декларировал Свято-Тихоновский институт (вспомним о книгах, вышедших под совместным грифом Свято-Сергиевского и Свято-Тихоновского институтов). Другими словами, было решено отдать Кочеткова-Борисова на растерзание и тем самым отвести удар от своего института и защищаемого им парижского богословия.
Я не хочу сейчас входить в этический аспект проблемы — ибо каждый перед своим Господом стоит или падает
, моя тема другая. Как заметил после конференции о. Димитрий Смирнов в интервью газете «Русь державная», и о. Георгий Кочетков, и отцы Свято-Тихоновского института читали одни и те же книги и даже имели во многом одних и тех же учителей. Однако в своей практической деятельности они пошли разными путями. О. Георгий Кочетков решил воплотить в жизнь то, что он считал и считает неотложно необходимым для современной церковной жизни — возродить катехизацию, восстановить значение таинства Крещения в его полноте, создать евхаристическую общину, очистить, хотя бы минимально, богослужение от позднейших искажений и лишних добавлений, возродить местную соборность на уровне прихода и общины, восстановить личностное измерение церковной жизни и т. п. Все это, безусловно, во многом близко идеям о. Николая Афанасьева, о. Александра Шмемана и о. Иоанна Мейендорфа и других богословов русской эмиграции, хотя, надо заметить, что о. Георгий, действительно во многом опираясь на их труды, никогда не заявлял себя ни их учеником, ни прямым последователем, — так что надо сразу сказать, что устроители конференции усердно опровергали тезис, ими самими и придуманный. О. Георгий прекрасно понимал, что его деятельность неизбежно вызовет в церкви реакцию, но с одной стороны, в первые годы перестройки Господь давал шанс (сейчас все это было бы уже почти невозможно), и преступно было его упускать, с другой же стороны, важно было именно не рассказывать об истине, но являть ее. «Свято-Тихоновцы» же пошли по более медленному и, как им тогда казалось, более надежному пути. Они, видимо, решили постепенно подготовить церковь к восприятию различных идей по обновлению церковной жизни, в том числе и богословских идей парижской школы, для чего и создали свой институт, где, не вводя ничего радикально нового, стали преподавать все это в теории. Что же, возможно им тогда действительно казалось, что о. Георгий своей «нетерпеливостью» и «поспешностью» ставит под удар дело невероятной важности и поэтому вполне достоин того, что они ему устроили.
Однако не приписываем ли мы невинным людям того, чего они не совершали и о чем даже вовсе и не думали? Обратимся к первому же докладу, прозвучавшему на конференции, принадлежащему ее ведущему, ректору Свято-Тихоновского института о. Владимиру Воробьеву. В нем-то недвусмысленно и обозначались причины и цели конференции.
Доклад о. Владимира Воробьева: что предполагалось и что вышло
В первых же его строках о. Владимир поднимает флаг, под которым хотели бы выступать устроители конференции: евхаристическая экклезиология, то есть все та же парижская школа. По его мысли, «евхаристическая экклезиология неразрывна с историческим восприятием Церкви как единства в Духе Святом…» (см. Единство церкви: Богословская конференция 15–16 ноября 1994 г. — М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 1996 г. (далее в ссылках — ЕЦ), с. 7), и это вот единство сейчас находится под угрозой разного рода расколов. Прежде всего, ему угрожают те силы, которые в докладе названы националистическими, но которые точнее должны были бы быть названы филетистскими, — то есть теми, для которых любовь к своему оказывается сильнее и важнее любви к евангельской истине. Во-вторых, говорится о «юрисдикционно-политических» устремлениях некоторой части церкви, также могущих привести к расколу. Надо сказать, что и в этом случае описываемое явление оказывается шире того определения, которое ему дается в докладе. Это «чуждые национализму движения церковных властолюбцев, оппозиционеров, эмигрантов и церковно-политических диссидентов, околоцерковных политиков и авантюристов… Раскольническую психологию вообще характеризуют накал страстей, демоническая гордыня, доходящая до фанатизма… злорадство по отношению к оппонентам, в пределе — ненависть и злоба… подозрительность, уверенно возводящая на противников самые нелепые, клеветнические и невероятные обвинения, тенденция к сектантству… Источником, питающим раскол, становится разница в восприятии церковной жизни и жизни вообще (различный менталитет), узость кругозора, недостаток культуры, часто личные амбиции. Раскольники обычно любят апеллировать к канонам, но это не мешает им с легкостью преступать их, как бы не замечая этого… Их требования, как правило, не ограничиваются ни групповыми, ни национальными рамками, а имеют общецерковный масштаб. Вся церковная иерархия должна перед ними покаяться, и вся церковная жизнь должна быть в корне и единовременно перестроена, чтобы удовлетворить их…» (ЕЦ, с. 11).
Вот уж поистине, трудно не согласиться с этими словами и трудно не видеть, как они сейчас сбываются! Мы, действительно, постоянно сталкиваемся с нетерпимостью, духом сектантства, невежеством, ожесточенными спорами по мелочам, озлобленностью, клеветой, заговорами, провокациями, давлением околоцерковных сил и внутрицерковных группировок, жаждущих власти, стремящихся встать над иерархией и легко втягивающих ее в различные провокации и авантюры, на которые она, в свою очередь, почему-то легко поддается, и т.д. и т.п. Сейчас, по прошествии четырех лет, мы, наверное, можем определить эти силы скорее еще и как фундаменталистские.
Таким образом, прежде всего в докладе обозначаются силы, которые сами в себе несут дух раскола, от которых исходит его прямая и непосредственная опасность. А вот далее о. Владимир переходит к третьей опасной тенденции, которую он называет «революционно-реформаторской». Ее представители может быть и не хотят раскола, но «не понимают, что все их рационалистические начинания… могут привести только к расколу и новым страданиям церкви и ее чад». Другими словами, их деятельность может активизировать два первые направления, и поэтому задача конференции — остановить «реформаторов».
Надо сказать, что прежде всего докладчик признает, что деятельность «реформаторов» имеет под собой вполне определенную почву:
«В основании такого движения находится значительная и очевидная правда: наличная историческая действительность всегда имеет в себе массу пережитков, нестроений, греховных злоупотреблений и несоответствий евангельскому идеалу. Более того, исторические наслоения, открывающиеся исследователю сегодняшней церковной традиции, сплошь и рядом свидетельствуют о регрессе духовной жизни, о неправильно понятом или забытом предании древней Церкви, о нововведениях, сделанных в поздние века под влиянием латинства, об искажающем церковную жизнь влиянии государства петровской эпохи и т. д. Пытливому взору ревнителя церковного благочестия является прямая связь современного духовного неблагополучия с искажениями, вкравшимися в церковную традицию. Очень часто эти искажения бывают поистине ужасны…» (ЕЦ, с. 13).
Другими словами, то обновление церкви, за которое ратуют обличаемые автором «реформаторы», — вещь нужная и даже необходимая. Другое дело — как эти нововведения осуществлять. Ведь может повториться история начала нашего века, когда «реформаторские намерения… были использованы и скомпрометированы предателями Церкви».
Что же, опасность модернизма, так же как опасность раскола или компрометации, — опасность достаточно серьезная, и история Русской церкви начала века, безусловно, дает нам в этом отношении множество уроков. Правда, надо заметить, что она еще слишком мало изучена, и в ее интерпретации часто господствуют мифы и домыслы. Так, возражая о. Владимиру, можно было бы сказать, что, наоборот, именно чересчур охранительная позиция некоторой части церкви привела к тому, что время, когда реформы можно было осуществить мирно и плодотворно, было упущено и что это-то и позволило «предателям Церкви» спекулировать на идеях начала века. Впрочем, может быть, и это не совсем точно. Что же — обо всем этом можно было спорить как угодно остро и на каких угодно конференциях, в том числе и на этой, и на первый взгляд, для этого она и была созвана. По крайней мере, так было заявлено: «Все проблемы, которые стоят в церковной жизни сегодня, которые становятся удобным предлогом для деятельности раскольников, должны обсуждаться вслух».
К сожалению, ничего подобного на конференции не произошло и, как показывает следующая часть доклада о. Владимира, возможности к этому и не было: осуждение было готово до всякого обсуждения. Прежде всего, никаких реформаторских «тенденций» он не обличает. Сделав ряд весьма недвусмысленных намеков на предмет своего нападения: «братства, миссионерские приходы, общины-семьи, неполные члены церкви» и т.п., он просто начинает обливать грязью практически только одного человека:
«Духовная слепота, нечувствие к окружающей духовной жизни, неслышание инакомыслящих, неспособность критически оценить самого себя и свою деятельность — вся эта духовная паранойя становится уделом реформаторов» (ЕЦ, с. 15).
Далее следуют обвинения в гордыне, в «мечтах о создании идеальной общины», в прелести и т.п. Прочитав все это, понимаешь, что никакого места суду Божию и суду Церкви здесь не оставляют. Конференция, вопреки громким заявлениям, не открыла обсуждение, но закрыла его «всерьез и надолго».
«Мы имеем дело с революционной идеологией на христианской почве, одетой на сей раз в священнические рясы. Она не считается с инакомыслящими, без обсуждений осуществляет свою программу. Впрочем, и во многих других «деталях» образ известных в истории революционеров поразительно точно передает настроения и поведение новых революционеров-реформаторов церковной жизни» (ЕЦ, с. 14).
Так заявляет докладчик, не замечая того, что и дух, и буква его собственного доклада позволяют отнести эти слова не к о. Георгию, но прежде всего — к самому о. Владимиру и его соратникам. (Впрочем, несмотря ни на что, суд Церкви на конференции все-таки прозвучал. Именно из зала от многих весьма уважаемых и не имеющих никакого отношения к братству «Сретение» людей в адрес конференции неоднократно звучали характеристики конференции как «партсобрания», проявления «духовного большевизма» и т.д.).
Особенно горько и неловко читать после этого такие строки:
«Церковь допускает множественность форм, знает разные пути служения Христу, но в едином духе мира и любви. «К миру призвал нас Господь». По тому познается лукавый дух раскола, что легко предпочитает свою правду миру, любви и единству во Христе» (ЕЦ, с. 16).
Но в том-то и дело, что о. Георгий, делая свое дело, никому не навязывал своего опыта, а вот о. Владимир и его соратники, наоборот, исходя из «своей правды», из своего видения церковной ситуации, устроили конференцию, на которой, увы, не было ни допустимости «множественности форм», ни «духа мира и любви».
Но какие же пути решения назревших проблем предлагал сам о. Владимир?
«Авторитетные церковные комиссии и соборы могут и должны принять на себя продуманную, выверенную, осторожную инициативу назревших изменений, исправлений, улучшений церковной жизни. Необходимо иметь литургическую комиссию из специалистов, которые действительно чувствуют Церковное Предание и дорожат им. Нужно создать комиссию по улучшению переводов Священного Писания и богослужебных книг… Все внешние реформы: языковые, литургические, общинно-приходские, катехизические и др. сами по себе ничего не дадут для уровня духовной жизни, но только вызовут разногласия, расколы, потерю единства… Напротив, подлинный подвиг духовной жизни сам собой рождает духовное творчество, которое легко облечется в необходимые новые формы, не вызывая ни у кого протеста. Весь исторический опыт Церкви учит этому» (ЕЦ, с. 17).
Сейчас, спустя четыре года после конференции, эти слова кажутся не только очень наивными, но и весьма противоречивыми. Прежде всего, тот дух нетерпимости и «духовного большевизма», который взяли под свое крыло устроители конференции, занял после нее в церкви господствующее положение и закрыл все пути к осуществлению их же благочестивых прожектов. Другими словами, решив забрать у о. Георгия Кочеткова и его общины знамя «евхаристической экклезиологии», устроители конференции удержать его так и не смогли. Это и понятно, ведь в церкви ничего не делается «само собой», и как раз именно этому учит нас «весь исторический опыт Церкви». Ведь и правда, ее история — это, прежде всего, не история «авторитетных комиссий и соборов» и вводимых ими внешних реформ, но история «напряженного подвига духовной жизни», история личностей, бравших на себя и ответственность за единство Церкви, и инициативу в решении назревших проблем на путях дерзновенного движения вперед, а не сваливавших их на абстрактные комиссии, и всегда проходивших через непонимания, гонения и мученичество. Но в том-то и беда, что устроители конференции отказались от этого «напряженного подвига духовной жизни», декларируемого ими, то есть, говоря словами Евангелия, от по-человечески скандального и безумного креста, вместо этого попытавшись достичь мира и единства на путях недопустимого компромисса, вступив в союз с гонителями.
В одном о. Владимир оказался прозорлив. Действительно, как и в начале века, то недолгое время, когда можно было сделать многое, было упущено, и благочестивыми идеями устроителей конференции воспользовались «предатели Церкви». Сегодня, как и в те трагические годы, мы имеем хорошую возможность наглядно убедиться в том, что происходит в церкви «само собой» — результат, как говорится, налицо. Никаких комиссий не создано, костры из книг великих богословов уже горят, а за отказ отречься от «их» учений священников запрещают в священнослужении пожизненно. И нельзя сказать, что это не связано с той конференцией: именно конференция не только не остановила раскольнические силы филетизма и фундаментализма, но наоборот, дала им в руки все «козыри». Например, такие печально известные книги как «Сети обновленного православия» (Москва, «Русский вестник», 1995 г.) и «Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда»» (Москва, «Одигитрия», 1996 г.) устроены по следующему принципу: они начинаются с докладов авторитетных священников, прозвучавших на этой конференции, касающихся Кочеткова-Борисова, а вот заканчиваются буквально обливанием грязью о. Александра Шмемана, Сергея Аверинцева, и даже такого почитаемого в Русской церкви (и в Свято-Тихоновском институте, в частности) человека, как архимандрит Таврион (Батозский)! Другими словами, паровоз тащит за собой уже совсем другие вагоны. Так что можно сказать, что екатеринбургское аутодафе «Свято-Тихоновцы» устроили своими руками: кто знает, не под влиянием ли вышеупомянутых книг совершил свое «дело веры» епископ Екатеринбургский Никон?
Конференция
Что же происходило на конференции дальше? Как это часто бывает, если первые ноты взяты фальшиво, то потом все идет хуже и хуже. Когда открываешь сборник материалов конференции, изданный Свято-Тихоновским институтом, и начинаешь читать, то первое время не веришь своим глазам.
Прежде всего, это касается издания сборника. Во-первых, он включает в себя только сильно купированные и частично измененные доклады, да и то не все — почему-то в него вошли выступления, на конференции не прозвучавшие, но не вошли некоторые прозвучавшие. За пределами остались и далеко не единичные призывы к здравому смыслу со стороны некоторых гостей конференции. Наконец, не вошли и те самые прямые характеристики конференции как «партсобрания» и проявления «духовного большевизма» со стороны ее участников, о которых мы уже упоминали (также, впрочем, как и прямые призывы снять с о. Александра Борисова и о. Георгия Кочеткова священнический сан).
К тому же сборник крайне неряшливо издан. Вот, например, в уста о. Георгия Кочеткова, а вернее прот. Александра Васильевича Горского, вкладывается такая странная фраза: «Стыдение лица той науки, которая хощет защищать истину, ложно» (???) (ЕЦ, с. 27). Неужели нельзя было уточнить цитату по телефону («Стыдение лица той науке, которая хощет защищать истину ложью»)? Или стыдно было звонить о. Георгию после такого «обсуждения»? Или, например, такая редакторская недоработка. Свящ. Константин Буфеев вспоминает: «Нет строгого отношения к постам: я сам могу вспомнить, как мне приходилось с о. Георгием Великим постом вкушать мясной суп и рыбные котлеты…» (ЕЦ, с. 196). Помимо того, что такие подробности, тем более касающиеся больного человека, как-то неуместны на богословской конференции и, вообще говоря, напоминают донос, хочется спросить: кто такой о. Георгий Великий?
Содержание же большинства докладов невозможно даже подвергнуть богословскому анализу, поскольку до всякого богословия в них очевидна, извините, простая недобросовестность. Вот, например, выступление вышеупомянутого А. Дворкина:
«Принадлежность человека к той или другой религии определяется его национальной принадлежностью. Христианство… подобно другим религиям, как семя на почву, накладывается на естественную религиозность того или иного народа. В значительной мере от естественной религиозности будет зависеть восприимчивость данного народа к христианству… Приятие тем или иным народом именно этого, а не другого христианского вероисповедания не является исторической случайностью. Тот факт, что поляки в большинстве своем стали католиками, а русские, болгары и сербы — православными, говорит о глубоком соответствии каких-то черт народного характера именно данной конфессии» (17 и 99 (номера стр. книги о. А. Борисова «Побелевшие нивы»)).
Именно так: не религия сформировала национальные культуру и цивилизацию, а изначальный, природный национальный характер определяет выбор религии. Следовательно — национальному характеру китайцев лучше всего соответствует даосизм, а японцев — буддизм. Значит, зря трудился св. Николай Касаткин, переводя Евангелие и богослужение на японский язык и обращая «природных буддистов» японцев.
Но ведь наши националисты говорят то же самое, что если русскому естественно быть православным, то татарину — мусульманином, и незачем ему соваться в русскую веру» (см. ЕЦ, с. 137).
Мы не будем здесь оценивать правоту или неправоту о. Александра, но, честно говоря, трудно поверить, что доктор философии, кандидат богословия Дворкин не заметил, что речь у автора книги идет все-таки не о принятии буддизма, даосизма или ислама, но принятии разными народами того или иного христианского исповедания. В этом контексте его рассуждения о свт. Николае Японском выглядят по меньшей мере грубым передергиванием. К тому же у о. Александра речь идет скорее всего даже не о вероучительных разногласиях между конфессиями, но о культурных особенностях того или иного исповедания, которые существовали и до разделения…
Или:
«Одинаково наивно выглядят как стремления материалистов свести всю жизнь человека лишь к биохимическим процессам, так и стремления некоторых богословов философски обосновать, исходит ли, например, Святой Дух только от Отца или от Отца и Сына» (с. 145). Вот это мы уже проходили: бедный «духовный инфантил» св. Григорий Палама, споривший с Варлаамом Калабрийцем» (ЕЦ, с. 139–140).
Хочется снова спросить А. Дворкина: разве св. Григорий, которого, кажется, никто кроме него еще не осмеливался, даже в шутку, назвать «духовным инфантилом», обосновывал догматическое учение об исхождении Св. Духа философски? Или он снова, как и в предыдущем случае, «не заметил» этого важного слова?
А вот рассуждает на схожие темы иеродиакон Климент (Березовский):
«Отец Александр рассуждает о некоторой «естественной религиозности того или иного народа» (с. 95). Суть ее сводится к тому, что, мол, у того или иного народа как бы от природы существует именно эта, а не другая религия. Поэтому буддист, можно сказать, рождается буддистом, даосист даосистом (правильнее — даос даосом — С.З.) и т. п. Интересно сопоставить это с рассуждениями митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа), высказанными в статье, прочитанной на конференции «Афанасьевские чтения», состоявшейся в октябре 1993 г. в Москве в Сретенской общине. Он считает, что Церковь тогда только
«понятна, когда реальность спасения Христова укоренена в местной конкретной ситуации со всеми ее природными, социальными, культурными и прочими характерными особенностями, которые составляют жизнь и мысль народа, населяющего это место». И еще ниже говорится, что для этого Церковь «должна усвоить и использовать все особенности конкретной ситуации данного места и не навязывать чужую культуру». Здесь не просто апология церковного национализма. Здесь, по существу, та же мысль, что у о. Александра: нормальная религия есть порождение религиозной культуры, если не так, она инородное тело. Все это, простите, не ново…» (см. ЕЦ, с. 153).
Кажется, о. иеродиакон, как и г-н Дворкин, не умеет различить, когда речь идет о естественной религии, а когда — о христианстве, свидетельствуя тем самым о той самой духовной болезни, в которой обвиняет других, а во-вторых, неужели же он не заметил содержания следующего абзаца в статье митр. Иоанна:
«Если это усвоение и использование местной культуры может сделать церковь поместной, то это не означает с необходимостью ее превращения в Церковь. Реальность спасения Христова не наступает исключительно и единственно ради того, чтобы утвердить человеческую культуру, в равной степени она ее обличает» (см. Афанасьевские чтения: Международная богословская конференция памяти о. Николая Афанасьева, Москва, МВПХШ, 1994 г., с. 141).
Заметим, однако, что иеродиакон уже явно не хочет играть по правилам устроителей конференции и Кочетковым-Борисовым не ограничивается.
Или вот, например, выступление о. Дмитрия Смирнова. Сначала он почему-то долго рассуждает об ошибках патр. Никона и митр. Сергия (Страгородского), приведших к расколу, — как будто о. Георгий патриарх или блюститель патриаршего престола! Но вот как заканчивается его выступление (интересно, м.б. редакторы просто не поняли — что он говорит?):
«Если эта тенденция (о. Александра Борисова и о. Георгия Кочеткова — С.З.) возобладает, то раскол в Русской Православной Церкви неизбежен, возможно, уже через 10–15 лет. Если же Русская Церковь не сможет сопротивляться, в силу утраты к тому времени духовной силы, и раскола не произойдет, то утраты будут гораздо ужаснее, чем те, о которых я говорил в начале своего выступления…» (см. ЕЦ, с. 49).
Другими словами, о. Дмитрий рассматривает способность и готовность к расколу признаком духовной силы церкви! Можно только догадываться, что за «дух» он здесь имеет в виду! В этом контексте его последний призыв: «Да не будет! Постоим за веру православную!», — и есть прямой призыв к расколу. Это уже куда как сильно отличается от позиции о. Владимира Воробьева. Становится сразу понятно и то, почему о. Дмитрий так много рассуждает о патриархах да митрополитах: они, а не о. Георгий Кочетков, — подлинные адресаты его выступления: смотрите, мол, если не расправитесь с Кочетковым-Борисовым, у нас еще хватит «духу» на раскол!
Или вот, архимандрит Алипий (Кастальский) (в связи с мыслями, высказанными в книге о. Александра Борисова) рассуждает о том, стоит ли причащать детей, если они делают это несознательно:
«Действительно, до определенного возраста ребенок многое делает несознательно. Например, младенец несознательно питается молоком своей матери. Может быть, из-за того, что он делает это несознательно, разлучить его с матерью?» (см. ЕЦ, с. 67).
Я понимаю, может быть, архимандрит по понятным причинам никогда не видел (а сам не помнит), как новорожденный ищет грудь, но ведь здравый-то смысл надо иметь!
А вот он цитирует св. Григория Богослова (судя по всему не по полному тексту, а по какому-то противосектантскому сборнику): «У тебя есть младенец? Не давай времени усилиться повреждению; пусть будет освящен во младенчестве и с младых ногтей посвящен Духу». Но позвольте, ведь это же хрестоматийная цитата из Слова на святое крещение (40-го в русском издании) — крестить, «если настоит опасность», а
«о прочих же малолетних даю такое мнение: дождавшись трехлетия, или несколько ранее, или несколько позже, когда дети могут слышать что-нибудь таинственное и отвечать, хотя не понимая совершенно, однакож напечатлевая в уме, должно освящать их души и тела великим таинством совершения» (см. Св. Григорий Богослов, Творения, т. 1, с. 562).
Конечно, это всего лишь мнение, но все-таки мнение великого богослова.
Другая характерная черта конференции — простая некомпетентность многих выступавших, многие из которых прямо с трибуны признавались, что узнали о богословской конференции за день-два до своего выступления на ней. Видимо, их попросили выступить «ради спасения церкви», и они не успели толком войти в курс дела. Чем иначе можно объяснить, например, следующие слова из доклада известного пушкиниста В. Непомнящего: «Как можно ставить вопрос о том, чтобы служить Богу на другом языке, не-сакральном?» (см. ЕЦ, с. 83). Скорее всего, он просто не знал о существовании трехъязычной ереси. Или патролог А. Сидоров: «Затем сам этот подход вызывает вопросы — почему мы должны делать этот перевод? Чтобы быть понятным? Тогда давайте перейдем на язык Эллочки-людоедки?» (ЕЦ, с. 202). Вот и все обсуждение… В общем, как написано в одной хорошей книге: «Была сходка, все бурно кричали «долой!»», — что было бы смешно, если бы книга не называлась «Россия, кровью умытая».
А как же доказывается главный тезис конференции — о том, что между Сретенским братством и трудами основателей евхаристической экклезиологии нет преемственности? Рассмотрим доклад диакона Александра Прокопчука «Об истоках экклезиологии Сретенского братства», полностью посвященный этому вопросу. Он весьма характерен, т. к. в нем собраны почти все те ключевые моменты, которые подвергались критике на конференции и после нее. Для простоты анализа построим наше изложение в виде ответов на замечания о. диакона.
1) Церковь и Евхаристия
«Первое, что мы видим при чтении работ, опубликованных Сретенским братством, — это упрощение, а значит — и ограниченность восприятия в них богословской системы о. Николая Афанасьева и сведение богатства евхаристической экклезиологии к простейшим формулам и формулировкам. Так например, формула: «Церковь есть литургия, Евхаристия». Вот и вся экклезиология. У о. Николая эти понятия никогда не сливаются, хотя он и говорит об их тождественности… формулировки «есть» мы нигде не встретим. И это понятно, так как она означала бы, что собственно Церковь исчерпывается Евхаристией» (см. ЕЦ, с. 179).
Ответ. Во-первых, «А есть Б» — это и есть формула тождества, отождествление. Во-вторых, привожу цитату: «Евхаристия не есть одно из таинств… но есть сама Церковь» (о. Н. Афанасьев. Таинства и тайнодействия, Православная мысль, VIII, Париж, 1951, с. 32). В-третьих, то, что «собственно Церковь исчерпывается Евхаристией» в Сретенском братстве как раз всегда и считали недопустимым упрощением и ограничением, о чем о. Георгий неоднократно говорил и писал.
2) Причастие без причастия
«Но антиномичность в «богословии» о. Георгия Кочеткова в том, что через несколько страниц он говорит: «Совершенно ясно, что человек может причащаться, как нам не однажды напоминали святые отцы, и при этом не быть в Церкви». Надо сказать, что сама по себе ссылка на святых отцов для выступления о. Георгия носит характер исключительный. Мне такие цитаты неизвестны. И я думаю, что мы с вами их никогда не найдем, — обвиняет о. Георгия во лжи юный докладчик. — Очевидно, что утверждение о возможности причащения вне Церкви отрицает евхаристическую экклезиологию. Церковь там, где совершается Евхаристия, и где совершается Евхаристия — там и Церковь. Это есть основное положение евхаристической экклезиологии (см. Прот. Н. Афанасьев. Трапеза Господня. Рига, 1992)» (ЕЦ, с. 180).
Ответ. Тут есть недоразумение. О. Георгий, как ясно из контекста (см. Афанасьевские чтения, М., МВПХШ, 1994 г.), здесь имеет в виду не то, что можно причащаться вне Церкви, а известные слова, например, прп. Серафима Саровского, говорившего, что можно у людей причащаться, а у Бога остаться неприобщенным (т.е., действительно, оказаться вне Церкви), о чем есть хрестоматийная цитата из прп. Симеона Нового Богослова: «А те, которые причащаются недостойно, бывают пусты от благодати Св. Духа, и питают только тело свое, а не души свои, — и предвидя, видимо, выпады о. диакона, продолжает, — но, о возлюбленный, не возмущайся против меня, слыша истину, мною тебе возвещаемую: ибо это истина».
Здесь я хочу сделать отступление очевидца, поскольку этот момент мне хорошо запомнился. В ответ на это замечание А.М. Копировский из зала тут же «дал» ему какую-то соответствующую цитату, после чего докладчик стал беспомощно оглядываться, все больше в сторону о. Владимира Воробьева, который как-то вышел из положения. Дело, впрочем, не в этом, а в том, что здесь отчетливо стала ясна психология всего собрания: если я студент Свято-Тихоновского института — «младшего брата московских духовных школ» и т. п., если я выступаю против человека, против которого выступает большинство известного мне духовенства нашего города и т. п., то я гарантированно православный, я гарантированно нахожусь в русле святоотеческого предания и, следовательно, могу взять на себя смелость без достаточной осведомленности заявлять — что есть у св. отцов, а чего у них нет и быть не может. Еще бы, ведь за мной ведь вся церковь, и значит, все святые отцы… Но оглядываешься, и находишь вместо всех святых о. Владимира Воробьева…
О том же, что возможно причащение вне видимой евхаристии и, значит, вне видимой церкви (хотя и внутри Церкви мистической), свидетельствует, например, такой уважаемый православный богослов, как Николай Кавасила, в своем «Изъяснении божественной литургии»:
«От чего же зависит освящение: от того ли, что мы имеем тело, что приходим ногами к трапезе, что берем руками Святые (Дары), что принимаем их устами, что едим и пьем? Нет, ибо многие, у которых все это было и которые таким образом приступали к таинствам, не получили от того никакой пользы и отошли, подвергшись большему злу. Так что же бывает причиною освящения для освящаемых? И чего требует от нас Христос? Это — чистота души, любовь к Богу, вера, желание таинства, ревность к причащению, горячее усердие и то, чтобы мы приходили с жаждою. Вот чем приобретается это освящение и что необходимо иметь тем, которые приходят соделаться причастниками Христа, без чего невозможно (освящение)… Посему, если души имеют готовность и расположенность к таинству, а Господь, Который освятил и совершил (его), всегда желает освящать и хочет всякий раз преподавать Самого Себя, то что может воспрепятствовать приобщению? Очевидно, ничто…» (XXII).
3) Канонические, мистериальные и мистические границы Церкви
«О различении трех типов границ Церкви, которые могут быть описаны. Прежде всего, канонические границы с маленькой буквы, потом со средней буквы (если бы таковая была), мистериальные, и с большой буквы — Мистические». Можно лишь предположить, что «вечная истина» эта, сокрытая от нас доселе, по-видимому, была явлена о. Георгию вследствие его пророческого призвания, о котором он говорит в интервью журналу «Новая Европа» (ЕЦ, с. 180).
Что ж, в устах студента, с юношеским задором обличающего «еретика», такие вещи объяснимы и даже простительны. Удивительно то, что к этому более чем странному выпаду присоединялись многие другие участники конференции, куда более, казалось бы, искушенные в богословии. Например, говорит владыка Василий (Родзянко):
«Есть опасность экклезиологии, которая расчленяет Церковь Христову как бы на три департамента. Так называемая «мистериальная церковь», так называемая «мистическая церковь» и «каноническая церковь». «Мистериальная» происходит от слова «мистерия»… Слово «мистерия» — очень неудачное для такого рода обозначение. Оно не православного происхождения… Назвать этим словом внешнюю сторону литургической жизни Церкви очень опасно, и именно так, как в статье, которую я читал» (см. ЕЦ, с. 86).
В свою очередь, о. Николай Озолин вопрошает:
«Я сейчас не буду снова читать выдержки из статьи о. Георгия, я просто хочу сказать, что его идея несовпадения границ так называемой канонической церкви и так называемой мистической церкви (причем между ними где-то там обитает мистериальная, по-видимому, сакраментальная, если я правильно понимаю, церковь), — эта идея всех очень шокировала. О чем идет речь? По-моему, речь идет, с одной стороны, о систематическом размывании границ Церкви через настаивание на этом несовпадении границ разных Церквей. С другой стороны, происходит разложение единства Церкви изнутри. Откуда, спрашивается, взялось доселе никому неведомое учение о «трех церквах»: церкви канонической, церкви мистериальной (сакраментальной) и церкви мистической? Я настаиваю на вопросе «откуда?» Ведь налицо самая настоящая фальсификация: о. Георгий и некоторые представители его окружения делают вид, что они якобы ученики и продолжатели великих богословов…» (см. ЕЦ, с. 262).
Ответ. Что ж, на прямо поставленный вопрос приятно дать прямой и недвусмысленный ответ. Эта «вечная истина», это «доселе никому неведомое учение», вместе с терминологией «не православного происхождения», можно найти, например, у о. Георгия Флоровского, православие которого, кажется, не вызывает сомнений (по крайней мере, в Свято-Тихоновском институте). В его статье «О границах Церкви» (1933 г.) речь идет о том, что хотя с одной стороны, по учению св. Киприана Карфагенского, церковь не признает в еретических и схизматических обществах Церкви, с другой стороны, в своих канонических установлениях и практике та же самая церковь (и, кстати сказать, вопреки собственному богословию, тот же самый св. Киприан Карфагенский) признает действительность таинств (от крещения до Евхаристии), совершающихся в тех же самых еретических и схизматических обществах, а поэтому, в каком-то смысле, и их признает Церковью. Флоровский пишет:
«Канонические правила устанавливают или вскрывают некий мистический парадокс. Образом своих действий Церковь как бы свидетельствует, что и за каноническим порогом еще простирается ее мистическая территория, еще не сразу начинается «внешний мир»… Святой Киприан был прав: таинства совершаются только в Церкви. Но это «в» он определял поспешно и слишком тесно. И не приходится ли заключать скорее в обратном порядке: где совершаются таинства, там Церковь? А святой Киприан исходил из молчаливого предположения, что каноническая граница Церкви есть всегда и тем самым граница харизматическая.
И вот это недоказанное отождествление не было подтверждено соборным самосознанием. Церковь, как мистический организм, как таинственное Тело Христово, не может быть описана в одних только канонических терминах или категориях. И подлинные границы Церкви нельзя установить или распознать по одним только каноническим признакам или вехам. Очень часто каноническая грань указывает на харизматическую, — и связуемое на земле затягивается неразрешимым узлом и в Небесах. Но не всегда. Еще чаще не сразу.
В своем сакраментальном, или мистериальном бытии Церковь вообще превышает канонические меры. Поэтому канонический разрыв еще не означает сразу же мистического опустошения и оскудения… Все, что Киприан говорил о единстве Церкви и Таинстве, может и должно быть принято. Но не следует вместе с тем обводить последней контур церковного тела по одним только каноническим точкам…» (см. Свящ. Георгий Флоровский. О границах церкви, ЖМП, 1989 г., № 5, с. 71).
Интересно, почему участвовавший в конференции о. Владислав Цыпин, сам опубликовавший в свое время большую статью о границах Церкви и точно читавший статью Флоровского, не напомнил об этом присутствующим? Может быть потому, что в своей статье он и сам занимался «систематическим размыванием границ»?
«Но, с другой стороны, и вне Православия, в расколах, исповедуется вера в Божественную Троицу и Богочеловека Иисуса Христа, и вне Православия совершаются благодатные таинства. Где же тогда раскольники? Где схизматические общества? В Церкви или вне ее? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа… Да, схизматики не порвали еще всех связей с Церковью, они не чужды ей, и поэтому они в Церкви, ибо вне Церкви таинств нет. Так отвечали на этот вопрос святые отцы». Или: «Например, истоки доктрины о непогрешимости папы находятся вне Церкви, но это не значит, что христиане, разделяющие эту доктрину, — также вне Церкви. Все истинное, что сохранилось в учении и в жизни инославных Церквей, все действительное и действенное, все благодатное и спасительное идет от Православия и соединяет их с Православием. В инославных обществах, поскольку они «не вовсе чужды Церкви», живет и действует Православная Церковь» (свящ. Владислав Цыпин. К вопросу о границах Церкви, Богословские труды: Юбилейный сборник, посвященный 300-летию МДА, М., 1986, с. 217, 221).
Почему-то эта статья никогда не вызывала и не вызывает ни у кого никаких вопросов…
4) Махатма Ганди
«С течением исторического времени несовпадение границ Церкви истинной и канонической прогрессировало, заходя все далее и далее, вплоть до появления феноменов и ноуменов открытого атеизма, неверия в рамках церкви канонической (вспомним, к примеру, последних отпетых генсеков, которых отпевали только на том основании, что они были крещеными) и признаваемой многими христианами настоящей личной святости вне их, но в границах Церкви мистической (от Франциска Ассизского до Д. Бонхоффера и А. Швейцера, может быть, даже Махатмы Ганди». (О. Георгий Кочетков. «Вера вне церкви и проблема воцерковления»). Интересно, кто эти многие христиане, свидетельствующие о полноте святости (то есть полноте познания Бога (sic! — С.З.)) во Иисусе Христе и в неотъемлемом соединении с Ним в Духе Святом в земной жизни (sic! — С.З.) не только известного католического святого и представителя протестантизма (в принципе отрицающего личную святость), но и представителя индуизма?» (ЕЦ, с. 180).
Ответ. Во-первых, такое определение святости исключает из наших святцев всех ветхозаветных святых, и, скорее всего, и всех новозаветных — во всяком случае апостол Павел, видевший, по собственному признанию, «как сквозь тусклое стекло», под это определение не подпадает.
Во-вторых, можно и назвать таких христиан — это, например, Вселенский патриарх Афинагор: «Христиане не имеют монополии на Евангелие. Подумайте о том, что сделал Ганди…» (см. О. Клеман. Беседы с патриархом Афинагором, Брюссель, 1993 г., с. 136). Во-вторых, митрополит Сурожский Антоний (Блум) в своей книге о приготовлении к Великому посту приводит Ганди в своеобразный пример «пастырской мудрости» (см. Митрополит Сурожский Антоний. Духовное путешествие, М., «Православный паломник», 1997., с. 13). Этим, он, конечно, не утверждает, что он в Церкви, так ведь и о. Георгий пишет «может быть», да еще со знаком вопроса. Так что владыка Василий не решается рассуждать о Ганди, а другие православные епископы — решаются. Кстати говоря, владыка Василий, как это следует из его выступлений, и сам признает трехчастность границ Церкви. Ну, канонические границы — это очевидно, далее — мистериальные границы, где таинства совершаются даже за пределами канонических границ, согласно тому толкованию св. Василия Великого, на котором сам владыка энергично настаивал в своем выступлении на конференции, он тоже очевидно признает, и далее — та мистическая область, которая принадлежит только Богу и куда, возможно, и входит Ганди (возможности чего он ведь не отрицает, просто не дерзает заводить об этом речь), тоже им признается. Да, ему не нравится терминология о. Георгия Флоровского, но при чем же здесь о. Георгий Кочетков? Он не считает возможным, согласно апостолу Павлу, судить внешних вместо Бога? А кто на это решится? В материалах «Афанасьевских чтений» о. Георгий прямо отказывается от таких притязаний… В чем же тогда, собственно, проблема?
5) Кафоличность церкви
«В раскрытии своей кафолической природы (от греч. кафолики — полнота, т.е. у о. Н. Афанасьева — полноты своей природы) Церковь не знает иных границ на земле, кроме тех, которые даны ей самим эмпирическим бытием» (см. ЕЦ, с. 181).
Ответ. Во-первых, «каф олон» может переводиться и как «имеющая отношение до всего». Такой перевод точнее (этот вариант защищал о. Иоанн Мейендорф, см. его статью «Кафоличность церкви»), и именно на этом смысле настаивает о. Георгий. Во-вторых, несмотря на то, что о. Николай действительно придерживался такого мнения (только надо учесть, что «границы, данные Церкви ее эмпирическим бытием», для него — не канонические границы, а границы евхаристического собрания, т.е. как раз мистериальные, далеко выходящие за рамки канонических, т. к., например, Евхаристия католической церкви для него находится в этих границах), он, в отличие от Александра Прокопчука и многих других участников конференции, никогда не выдавал своего мнения за мнение всей церкви и видел здесь реальную проблему, о чем прямо и писал в статье «Границы Церкви»:
«Православная церковь и до сегодняшнего дня остается при практике, необусловленной богословским учением, или при учении, не оправдывающем практику. Эта неудача согласовать одно и другое вызвана догматической неясностью учения о Церкви, в частности, главным образом неопределенностью учения, где границы Церкви…» (см. о. Н. Афанасьев. Границы Церкви, «Православная мысль», № 7, 1949 г., с. 35).
Что же касается вообще вопроса о границах Церкви, можно обратиться к короткой записке того же митрополита Сурожского Антония (Блума). По поводу выражения «неразделенная Церковь» (см. Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви, Москва, Интербук, 1991, с. 259–276), где он прямо говорит о Церкви, что «ее тайна выходит за пределы ее видимых границ». Там можно найти и множество интересных цитат. Например, известная цитата, приписывающаяся разным иерархам Русской церкви, что «мы знаем, где Церковь есть, но не знаем, где ее нет», или высказывание бл. Августина: «Много таких, кто на земле считал себя чужим Церкви и кто в день Суда обнаружит, что был ее гражданином; много и тех, увы, кто мнил себя членом Церкви, и увидит, что был чужд ей», — высказывание, вполне согласующееся с евангельской притчей о Страшном Суде, о котором, кстати говоря, как заметил один из присутствующих, проф. А.Б. Зубов, большинство участников конференции забыло…
Стоит здесь вспомнить и знаменитые слова св. Иустина Философа, предварив их кратким комментарием Оливье Клемана:
«С точки зрения древней церкви спасение не относится только к крещеным (с точки зрения святцев тоже — С.З.). Повторим: получающие крещение призваны трудиться во имя всеобщего спасения. Слово всегда пребывало и всегда пребудет среди людей — через все культуры, все религии, все виды безрелигиозности. Воплощение и Воскресение — не исключительные формы этого присутствия, но составляют часть их многообразия.
«Христос есть Первородный Бога, Его Логос, к которому причастны все люди: вот что мы познали и о чем свидетельствуем… Все жившие согласно Логосу суть христиане, даже если их считали атеистами — как, например, у греков Сократ, Гераклит и подобные им…» (Иустин, Апология 1: 46) (Оливье Клеман. Истоки, М., Путь, 1994 г., с. 291).
Далее
«Кафоличность Церкви, — пишет прот. Фома Хопко, — означает, что Бог полно и совершенно являет Себя через Христа и Святого Духа в каждой Церкви, конечно, верной апостольскому учению, иерархии и таинствам». «Из ее кафолической природы вытекает, что она в себе самой имеет все для своей жизни, так как в ней пребывает Христос в полноте и единстве Своего Тела». И нам незачем искать Христа там, где его нет» (ЕЦ, с. 181), —
закрывает проблему кафоличности А. Прокопчук.
Ответ. Здесь очевидное недоразумение. В словах о. Фомы ничего не говорится о том, что происходит за каноническими и сакраментальными границами Церкви, так что вывод докладчика, простите, как говорится «не пришей кобыле хвост». Вот что, например, пишет по этому поводу в своей статье «Кафоличность церкви» прот. Иоанн Мейендорф, бывший ректором Свято-Владимирской семинарии до прот. Фомы, в любви к которому исповедовалось множество участников конференции:
«Трудности нашего свидетельства о кафоличности содержатся в ней самой, поскольку она является заданием, так же как и даром Божиим. Кафоличность подразумевает деятельную бдительность и рассуждение. Она подразумевает открытость ко всем проявлениям творческой и спасающей силы Божией повсюду. Кафолическая Церковь радуется всему, что показывает действие Божие, даже вне ее канонических пределов, потому что она Церковь того же самого единого Бога, Который и есть источник всех благ… Быть «кафоличным» именно и значит повсюду узнавать, что есть дело Божие и потому в своей основе «добро», и быть готовым принять это как свое. Кафоличность отвергает только зло и заблуждение. И мы верим, что сила «рассуждения», сила опровержения заблуждений и приятия подлинного и правильного повсюду, действует Духом Святым в истинной Церкви Божией. Словами св. Григория Нисского можно сказать: «Истина осуществляется, уничтожая всякую ересь и все же принимая полезное для нее от всякого» (Огласительное слово, 3)… Мы изменяем кафоличности Церкви, как только теряем способность видеть заблуждение, или свойство истинно христианской любви радоваться всякой правде и добру. Перестать видеть перст и присутствие Божие, где бы они ни проявлялись, и занимать чисто отрицательную и самозащитную позицию… это значит не только предать кафоличность, это вид неоманихейства. И обратно…» (см. прот. И. Мейендорф. Православие в современном мире, М., Путь, 1997 г., с. 121–122).
В общем, цитирование святых отцов и православных богословов, изобличающее богословскую несостоятельность большинства участников конференции, страстно желавших выдать свое видение церкви и ее проблем чуть ли не за святоотеческое и общецерковное, можно продолжать до бесконечности. Но перейдем, наконец, к самой, может быть, болезненной для участников конференции, поскольку практической, теме — внутреннему устройству Преображенского братства и входящих в него групп и семей-общин, и главное — принципам их жизни, разработанным и сформулированным о. Георгием.
Начнем с самого «страшного» —
Нерукоположенные пресвитеры
Говорит о. Димитрий Смирнов:
«Как правило, будущие члены общины проходят тотальную подготовку через систему «оглашения» и «катехизации», и, когда они «дозреют», создается новая община во главе с «пресвитером», который в знак своего пресвитерского достоинства носит наперсный крест установленного образца. Все «пресвитеры» духовно подчинены о. Георгию…» (см. ЕЦ, с. 42–43).
О. Валентин Асмус говорит о том же, но с богословских позиций:
«Есть и неясности в экклезиологии о. Георгия Кочеткова. С одной стороны, он вроде бы защищает пресвитерианскую модель и уравнивает пресвитеров с епископами, о чем уже говорилось, с другой стороны, особенно в последнее время, когда создалась структура прихода, состоящего из отдельных общин, у о. Георгия появляется как бы епископское самосознание…» (ЕЦ, с. 234).
Ответ. Возражая, о. Димитрию можно сказать, что, конечно, это неправда. Никаких таких «пресвитеров» нет, поскольку общины строятся по неиерархическому принципу, и крестов нет, а что есть и у кого — это о. Димитрий прекрасно знает. Однако стоит обратиться, опять-таки, к о. Александру Шмеману и его статье «По поводу богословия соборов». Он, например, считает, что если бы подобные «пресвитеры» и существовали, то м.б. это было бы только к лучшему:
«Если власть вязать и решить, т.е. конечная ответственность, в конечном счете принадлежит священнику, то на пути к своему решению, как истинно церковному, он нуждается в помощи всего церковного народа, ибо его власть есть власть выражать разум Церкви… Приходской совет в должном его понимании — не комитет, куда избираются практически мыслящие «люди дела» для заведования материальными нуждами прихода, но собор священника, являющий себя таковым во всех аспектах церковной жизни. И в самом деле, хорошо бы иметь особый чин поставления приходских старейшин (т.е. пресвитеров; выделено мной — С.З.) для участия в таком совете, — чин, выражающий и подчеркивающий духовные измерения этого служения» (см. прот. Александр. Шмеман. Церковь, мир, миссия, М., Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1996 г., с. 203).
Так что «епископское самосознание», появляющееся, по мнению о. Валентина Асмуса, у о. Георгия, в таком контексте вещь вполне естественная:
«Мы должны понять, что важнейшие черты ранней «епископальной» общины унаследованы приходом, равно как и то, что и приходской священник воспринял многие функции епископа. Священник сегодня, как правило, и священнослужитель, и пастырь, и учитель Церкви; в ранней же Церкви все эти функции выполнял епископ» (там же, с. 201).
Бесспорно, мысли о. Георгия Кочеткова, касающиеся устройства приходской и общинной жизни, не тождественны мыслям о. Александра, но, как мы видим, они расположены в одной плоскости, концентрируются вокруг одной и той же проблемы. Если современный приходской священник унаследовал функции древнего епископа, то как восстановить то соборное управление церковью как общиной, которое выражалось в служении пресвитериума? Ведь именно то, что священник (пресвитер) унаследовал функции епископа, и приводит к той «неясности в экклезиологии», которую замечает о. Валентин, только это проблема не о. Георгия, а всей евхаристической экклезиологии, которая должна быть существенно восполнена.
Например, недостаток той модели приходского устройства, которую здесь предлагает о. Александр, в том, что экклезиологический статус этих приходских старейшин неясен. Если они будут именно «нерукоположенными пресвитерами», то они будут иметь харизму управления церковью, не связанную с сакраментальной иерархией, что входит в противоречие с основной мыслью о. Александра об их полной тождественности. Если же они все-таки будут рукоположены (именно в количестве 10–20 человек), то настоятель просто превратится в древнего старшего пресвитера, и тогда уже будет поставлен под вопрос экклезиологический статус епископа…
Вариант, отстаиваемый о. Георгием, другой — это вариант, в отличие от шмемановского, компенсаторный. Правда, самому о. Александру очень близка мысль, которую он подробно развивает в двух своих книгах, «Исторический путь православия» и «Введение в литургическое богословие», о подобном компенсаторном значении появления монашества, которое первоначально исключало «сакраментально-иерархическое», т.е. ставшее приходским, священство.
Так что замечание одного из выступавших на конференции, что «мы нигде не встречаем даже намека на целесообразность отчуждения общинной жизни от жизни прихода» (см. ЕЦ, с. 177), выглядит по меньшей мере странно, т.к. получается, что церковь не узнает своего:
«Откуда о. Георгий и его единомышленники почерпнули эту более чем странную идею остается загадкой. Единственная историческая аналогия, которая приходит на ум, относится к ветхозаветным временам, где храмовая жизнь богоизбранного народа в силу своей специфики потребовала восполнения в виде синагогальных общин» (ЕЦ, с. 177).
Между тем, сам приход в нашем понимании этого слова появился практически одновременно с тем, как общинная (монашеская) жизнь стала существовать самостоятельно. Здесь надо только заметить, что всякое восполнение имеет под собой какую-то почву. Так, надо понимать, что храм (или скиния) и до появления синагог никогда не был для иудеев единственным местом богослужения: празднование Пасхи говорит об этом с достаточной ясностью. Мы вообще часто забываем, что не только пасхальный агнец, но и всякое жертвоприношение Ветхого Завета имело своей целью и исполнением благодарственную жертву, которая приносилась в храме, но съедалась дома, и это съедение, трапеза, есть тоже сакральное действие. Одно не может существовать без другого. (Это было только в раннем христианстве, когда собственно Евхаристия не отделялась от трапезы, а служение иерархическое от неиерархического, потом стали неизбежны отдельные агапы, а потом — и монашество).
Заметим, что монашество первоначально имело тот же принцип, что и сформулированный о. Георгием в т. н. «герасимовской» статье, принцип полной независимости от наличной официальной церкви, которого так боится о. Аркадий Шатов (см. ЕЦ, с. 213), замечая, что, мол, в советское время это, может быть, и было оправдано, а сейчас — нет. Очевидно, однако, что это было и есть оправдано, начиная с константиновской эпохи, и не как противопоставление иерархии и утверждение «своей воли», а как залог существования самой церковной иерархии как таковой (т.е. служащей церкви, а не государству). Кстати говоря, о. Александр Шмеман в статье «Авторитет и свобода в церкви» (см., напр., «Православная община», № 46 (4), 1998, с. 110–122) еще в 1965 г. утверждал, что проблема недостатка свободы в церковной жизни совсем не во внешнем давлении на церковь со стороны власти, она характерна для любой православной юрисдикции, и сейчас мы имеем хорошую возможность в этом убедиться.
Если бы первые монахи не исповедовали принцип неофициальности, у кого бы отсиживался свт. Афанасий Великий, и что бы стало с церковью? Что же происходит с иерархией, когда, при наличии тесной связи церкви и государства, таких общин нет, мы знаем и по не столь давней истории, когда на всю Россию на свободе оставалось четыре епископа, да и тех трудно было назвать свободными. Не потому ли Русская церковь понесла такие потери после революции, что ничего подобного в ней к тому времени почти не осталось и иерархии просто не на кого было опереться? Конечно, кто хоть как-то знаком с историей, знает, что с монахами у священноначалия было много проблем, и проблем очень и очень непростых, но ведь это не значит, что монашество, как бы кто к нему не относился, не было церкви жизненно необходимо. И, конечно, будут проблемы и с независимыми общинами, и опасностей тут действительно много, о чем о. Георгий всегда прямо и говорит, но и они тоже жизненно необходимы.
Конечно, я повторяю, мысли о. Александра и о. Георгия разные, но разные в том, что они движутся к одному центру с противоположных сторон. О. Александр думает о том, как превратить приход в общину, в то время как о. Георгий хочет сделать приход неким местом сбора малых общин и «окном» церкви в мир.
Мехи ветхие
Все это ставит перед нами один важный вопрос. Почему же устроители и участники конференции всего этого не увидели? Мне кажется, анализ материалов конференции показывает очень важную вещь. А именно, что ошибка устроителей конференции гораздо глубже, нежели просто неправильно выбранная тактика в проведении церковной политики. Создается впечатление, что Свято-Тихоновский институт был создан как вполне традиционное по форме православное учебное заведение, только доступное для мирян и постепенно, в меру, без внешних изменений «внедряющее» в головы своих студентов современное православное богословие.
Что же вышло? А вышло то, что на деле сменились только тексты учебников да темы лекций, а подход-то остался прежним — схоластическим и буквалистским. Мы видели, что прочитав в статьях о. Георгия Кочеткова какие-то, может быть и спорные, но во всяком случае не являющиеся его изобретением, а часто общеизвестные в церкви вещи, пусть и выраженные в несколько непривычной для них форме, участники конференции никак не хотели их узнавать (как, например, в случае проблемы границ Церкви или «причастия без причастия»). Видение же церковных и богословских проблем подчас оставалось поверхностным, фрагментарным, разорванным, лишенным объема и глубины, из-за чего, как это слишком часто происходит, непримиримые и опасные противоречия виделись там, где имеет место лишь необходимое взаимодополнение, как это было в случае обсуждения такого имеющего непосредственное отношение к единству Церкви вопроса, как ее кафоличность. К тому же большинство выступавших были настолько свято уверены в том, что они находятся в русле Предания просто автоматически, без «напряженного подвига духовной жизни», без творческого смирения и дерзновения, без которых никогда не обойтись при обсуждении спорных проблем, что позволяли себе уверенно говорить о том, в чем просто некомпетентны. Конечно, наиболее ярко все это проявлялось у студентов Свято-Тихоновского института, хотя, к сожалению, не только у них.
Между тем о. Александр Шмеман писал по этому поводу:
«Может возникнуть вопрос: но что же вы предлагаете и чего же вы хотите? На него я отвечу, признаюсь, без особой надежды быть услышанным и понятым: нам нужно литургическое богословие, рассматриваемое не как богословие богослужения и не как сведение литургии к богословию, но как медленное и терпеливое соединение того, что в течение очень длительного времени из-за очень многих факторов было разрушено и изолировано — литургии, богословия и благочестия, их воссоединение внутри единого фундаментального видения… Мы должны научиться — а это нелегко — задавать правильные вопросы о литургии, а для этого мы должны вновь открыть — и это, опять-таки, нелегко, истинный lex orandi Церкви. И прежде всего, мы должны поставить под вопрос сам дух, организацию и метод нашего богословия и весь процесс образования, который мы некритично, слепо переняли от пост-тридентского Запада и который сейчас выдаем за православный и следующий Преданию» (см. Литургическое богословие, богословие литургии и литургическая реформа, «Православная община», № 41 (5), 1997, с. 61).
К сожалению, можно констатировать, что экклезиология тех, кто устроил эту конференцию, так и не стала евхаристической, несмотря ни на какие их заверения, поскольку так и осталась взглядом на Евхаристию и на Церковь, хотя, может быть, с виду и новым, вместо того, чтобы быть видением Церкви через Евхаристию, в чем и должна состоять евхаристичность такой экклезиологии.
Если смотреть на Евхаристию, то только и увидишь то, что есть налично: храм, «украшенный иконами и обогащенный святыми мощами», иерархию, мирян, таинства, чины, правильные догматические формулировки, опасность отступления от этого благолепия и опасность раскола этого действительно столь драгоценнейшего единства. Если же смотреть через, то можно увидеть много чего еще: мир как Церковь, и в ней — Бога и Его угодников, общину, ее устройство, миссию, катехизацию, а главное — возможность собирать все это в то свободное единство любви, к которому призвал нас Господь.
Евхаристическая экклезиология ни в коем случае не должна пониматься как новый набор положений, подлежащих заучиванию, малейшее отступление от которых рассматривается как ересь. Евхаристическая экклезиология есть, прежде всего, новое открытие Евхаристии как сердца жизни церкви, где собрание верующих во имя Христово получает возможность вновь и вновь становиться Церковью Духа Святого, исходить из смерти в жизнь, из разобщенности к единству, из мрака в свет, освещающий наш путь и избавляющий от необходимости рабски следовать букве инструкций. Евхаристическая экклезиология есть поэтому путь веры, путь открытый и выводящий нас на свободу, путь, который еще только начинается и который еще неизвестно куда выведет. Идти по нему так же трудно, как и стоять в благодати.
К сожалению, конференция «Единство церкви» стала отречением не только от буквы евхаристической экклезиологии, но от самого ее духа.
А.И. Осипов, один из немногих людей, тщетно пытавшихся призвать участников конференции забыть дрязги и заняться конструктивной работой, незадолго до конференции сказал, что нельзя запаять чайник, поставить на огонь и думать, что он не взорвется. Сегодня, когда в России начинают сжигать книги тех богословов, которых пытались спасти от «кочетковского осквернения» идеологи «Единства церкви», и объявляют их идеи «ересью», вспоминаются еще и другие слова: Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое
(Мф 9: 17).