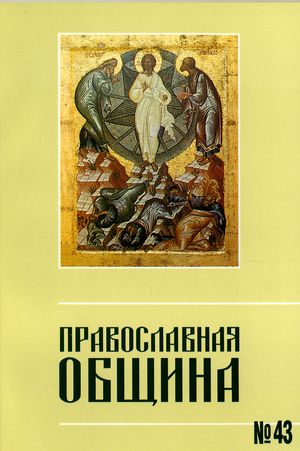Любовь надо всегда возгревать
Интервью с прот. Сергием Гаккелем, членом Попечительского совета Свято-Филаретовской высшей православно-христианской школы, многолетним ведущим русских религиозных программ Би-Би-Си.
— В начале, если можно, отец Сергий, расскажите немного о своей семье, о том, как Ваша семья повлияла на Вас лично, на Ваше призвание, на Ваше служение…
— Я думаю, что семья очень повлияла на меня, хотя война нас разделила, — в том смысле, что отец остался в Германии, надеясь, что выберется оттуда даже во время войны в Америку, которая тогда, до 1941 года, еще не вступила в войну, а мы к тому времени выехали уже в Англию. Так получается, что влияние отца — это дальнее как будто влияние. Я помню его в раннем детстве, я с ним опять встретился после войны, но вырос в конце концов без него. Тем не менее, я замечаю, что мои вкусы, мои стремления, мои идеалы, моя вера определяются во многом именно отцовским наследием. Но надо прибавить, что вырос я все-таки при матери и с ее помощью. Мы жили вдвоем, спасались в Англии от военных угроз, и главное влияние на меня оказывала именно она — своим терпением, своей добросовестностью, и своим прекрасным знанием русской литературы, русской жизни, русской духовной мысли, и своей верностью церковному преданию, в конце концов. После смерти отца она приняла монашеский постриг. Она имела огромное влияние, но тогда я этого не понимал. Вообще, так бывает с детьми, что они не понимают, не ценят, даже отрицают влияние матери или отца. И боюсь, что я в самом деле не показывал ей ту благодарность, которую теперь испытываю и теперь выражаю. Оба они выехали из России в 1922-м году, надеясь до того, что как-то пристроятся к новым порядкам, к новой жизни, но так не получалось. Бежали они, потом захватили их, посадили, умирал отец тогда от двойного тифа. Выпустили его из тюрьмы только для того, чтобы умер он на свободе, и ее вместе с ним тоже выпустили, тогда были еще порядочные времена. И они опять бежали — в Польшу, в Германию, а потом уже мы бежали с матерью дальше — в Голландию и в Великобританию. Мы надеялись, что вместе с отцом остановимся и поселимся в Америке, куда его приглашал как преподавателя в новую духовную семинарию, которую он тогда организовал или собирался организовать, митрополит Алеутский и Сан-Францисский Вениамин (Федченков) — тогдашний экзарх Московского Патриархата в Америке. Но этого не получилось, отец так и не выбрался из Германии, а мы остались в Великобритании.
— Вы получили прекрасное светское образование, насколько я знаю, Вы учились в хорошей частной школе, а потом получили высшее образование в Оксфорде. Когда к Вам пришло желание изменить свою жизнь и посвятить ее служению Богу и Церкви — стать пресвитером?
— Тут два разных момента: я думаю, каждый человек может решить посвятить себя служению Богу, стать преданным членом Церкви, а быть пресвитером — это уже отдельное призвание и отдельное дело. Так со мною, во всяком случае, получилось. Я никогда не думал, что буду пресвитером. Но в конце концов один человек подсказал мне, что такая роль может быть моей — это теперешний митрополит Антоний Сурожский, а тогда он был отцом Антонием. И вот он не раз мне подсказывал, что я мог бы хоть подумать о том, чтобы стать священником. Я все отказывался от этого, считая, что я недостоин, и то же самое, конечно, говорил ему. В конце концов, под некоторым давлением я согласился стать дьяконом и 6–7 лет так и прослужил дьяконом в нашем соборе — когда отец Антоний стал молодым епископом, он меня и рукоположил. Но долгое время я не мог решиться на следующий шаг. По церковному же порядку полагается, что епископ, раз человек уже согласился на дьяконское служение, может просто в определенный момент принять решение и приступить к следующему рукоположению. Я этого не знал, а владыка Антоний скрывал это от меня, желая, чтобы я сам решил этот вопрос. В конце концов получилось так, что служил я дьяконом в лондонском соборе и не думал уже о священстве, но настал такой момент, что я получил место преподавателя в университете не юге Англии, то есть за пределами Лондона. Тогда мне было сделано новое предложение — стать священником, потому что я выезжаю из Лондона, где, конечно, было бы легче просто служить в соборе, но тут открывалась новая миссионерская возможность передо мною — быть священником, не обязательно основать какой-нибудь приход или действовать так или иначе, но быть наготове для того, что произойдет. Может быть, ко мне подойдет тот или иной человек, может быть, будет просьба о приходской деятельности, о приходской жизни. Но быть наготове — это и значит принять рукоположение. Итак, накануне выезда из Лондона, в 64 году я и стал пресвитером, и выехал сюда — не на приход, не на определенное служение, даже не как капеллан университета, но просто надеясь, и владыка Антоний надеялся на то же самое, что какая-то польза от этого получится.
— Тем не менее, как мы сейчас видим, у Вас есть свой приход, у Вас есть возможность служить в храме, но это по прошествии уже более 30 лет. А в самом начале: Вы — молодой священник, молодой человек, неопытный, приезжаете в неизвестное место, и как же там все получается?
— Было трудно, потому что я все-таки чувствовал себя не в своей тарелке, я думал, что надо применить (хотя владыка говорил, что не надо спешить с этим делом), надо каким-то образом применить священство, стать действительно пастырем, служить так или иначе. В конце концов я начал самые скромные службы, даже в конюшне, что было не особенно прибыльно. Я помню, тогда приезжал патриарх Алексий I — не ко мне, в Лондон, — я ему тогда сказал — вот, новый приход основан. «А где вы служите?» Я сказал: «В конюшне». Ну, он как-то связал это с рождественскими иконами или картинами, где Спаситель рождается в конюшне, где стойла стоят, и сказал: «Ну, называйте тогда приход Рождественским. Пусть посвящается ваш приход Рождеству Христову. У вас будет много прихожан именно в Великий праздник». Никаких прихожан пока еще не было, но тем не менее приход так был назван и до сих пор так называется. Хотя, между прочим, недавно приезжала дочь о. Дмитрия Клепинина, и как раз в связи с ее приездом нашим старостой было сделано предложение, чтобы, когда в конце концов будет прославлена мать Мария (Скобцова), переименовать приход или дать приходу добавочное имя в ее честь. Но, конечно, этого прославления еще нет, а это прославление было бы кстати, так они считали, так как я написал ее биографию, хотя нельзя сказать еще — житие. К тому же это было время Великого поста, и я служил в облачениях о. Дмитрия, которые сшила сама мать Мария, так что мы в каком-то смысле моими , их связаны с их славой, и надеюсь, в конце концов, и с их прославлением.
— За свою жизнь Вы встречали и имели дар общения со многими великими людьми, сейчас мы уже можем об этом говорить прямо, потому что многих из них уже нет в живых. Кто были Ваши учителя, кто повлиял на становление Вас как личности?
— Ну, как личности — это в конце концов доходит до далекого прошлого, я уже говорил о матери и об отце. Конечно, имела огромное влияние личность митрополита Антония, который был моим духовным отцом долгие годы, рукоположил меня и до сих пор возглавляет нашу епархию. Конечно, были замечательные встречи, было очень близкое сотрудничество с некоторыми незабвенными людьми, такими как о. Иоанн Мейендорф или митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Но это все стадии, что-то добавочное. Я думаю, главное — это местное влияние, то есть постоянное влияние нашего митрополита, с которым я часто совершенно не согласен, с которым я часто расхожусь во мнениях, и он со мной, и так было и прежде, и тем не менее то, что меня связывает с ним, это самое ценное и самое важное.
— Деятельность Сурожской епархии известна и за пределами Англии, и даже в России мы много слышим о вас и радуемся вашим успехам и удачам, особенно миссионерского характера. Как Вы, отдалившись в пространственном отношении, перенесли служение всей Сурожской епархии, ее миссию, на эту землю — на юг Англии, и какой плод Вы принесли? Какой у Вас приход?
— Приход скромненький, надо сказать, приход англоязычный, что ужасно важно, и что показательно и типично для Сурожской епархии. И приход чувствует себя органической частью всей епархии, мы очень близко связаны друг с другом, так как нас сравнительно мало и даже очень мало. Так что наша деятельность — это не отдельная деятельность, она не отчуждает нас и не отделяет нас от всей епархии. У нас свое общее епархиальное дело, общеепархиальная миссия, общецерковная, в конце концов, миссия, которую мы выполняем, но никогда не напоказ, никогда не на виду даже. Мы всегда считали и считаем, особенно в нашем приходе, что нам положено каким-то образом влиять на окружающий нас мир и окружающих людей, чтобы они ценили нашу духовную жизнь, приходили, может быть, и на наши службы, хотя и не обязательно переходили в Православную церковь для того, чтобы оценить то, за что мы стоим, за что мы внутренне боремся, а получали от нас без всякой связи, во всяком случае свободно получали от нас ту или другую пользу, которую не мы как личности приносим, но которую мы передаем им тем, что мы есть, тем, что мы так служим, тем, что мы так верим, тем, что мы то или другое защищаем, показывая своей ежедневной деятельностью, что все это всерьез, что все это нами принимается как та истина, которую мы обязаны каким-то образом — но образ этот не обязательно определяется заранее — передавать членам и не членам нашей церкви. Поэтому получается и так, что мы занимаемся (это сейчас уже неудобное слово, но я его употребляю) экуменизмом, то есть межцерковными встречами, межцерковными обсуждениями, межцерковными деяниями. Вот сегодня утром, проходя по городу, мы вместе с Вами увидели, как собираются деньги на общехристианскую благотворительную деятельность под названием «Christian Aid» — «Христианская Помощь». Это помощь всемирного характера, которая приносится всеми христианами Великобритании, и эта помощь постоянно скромно и деятельно применяется и раздается, помощь не только денежная, не только в области питания, скажем, бедных и бездомных, что тоже важно, но и в развитие тех обществ, которые до сих пор остаются в нужде до некоторой степени, потому что западный мир, в том числе и Великобритания, эксплуатировал эти страны и обеднил их до определенной и до ужасающей даже степени.
— Ваш приход является по-своему просто уникальным: насколько я знаю, вы служите в храме, который вам любезно предоставила англиканская церковь и даже в воскресенье литургия начинается в 11:45 — так поздно именно потому, что вы приходите служить сразу после окончания англиканского богослужения. Как вы достигли такой высоты экуменического общения?
— Ну, это, может быть, не плод наших стараний, это плод вообще существующей в Великобритании ситуации, где мы очень по-дружески относимся друг ко другу. Это плод многолетних стараний наших предшественников и наших стараний к тому, чтобы мы не только, скажем, по воскресеньям в определенный час встречались и пользовались англиканским храмом. Долгие годы шли разные дела, разные совместные деяния, которые сближали нас все больше и больше — без всяких определений, без всяких решений, без всяких соглашений на то или другое сотрудничество. Это, можно сказать, органически последовало, что мы так бережно относимся друг ко другу, уважая друг друга: они нас, а мы их. Это не значит, что мы признаем все, что есть в англиканстве, все, что есть в католичестве, в протестантизме и т. д., но мы готовы уважать их веру, их деятельность и, конечно, их храмы.
— Войдя сегодня в ваш храм, я была поражена тем, что Вы, поскольку этот храм англиканский, а в англиканских церквах отсутствует алтарная преграда и алтарь является всего лишь некоторым возвышением чуть впереди молящихся, служите «без алтаря», принося с собой одну или две иконы… Не мешает ли это Вам, отец Сергий, и Вашему приходу быть православными?
— Нет, может быть и наоборот — помогает нам быть православными. Тут надо помнить, что в конце концов в истории церкви, да, ограждался престол, да, всегда было некоторое пространство вокруг, которое мы сейчас называем алтарем. Это для приличия, для благолепия и для благочиния получалось, и создавалось, и развивалось до тех пор, пока не появился такой алтарь, который ограждает себя от народа, которому он должен принадлежать и вокруг которого должна происходить та служба, которая и есть общая приходская служба. Если же мало кто видит или никто даже не видит, что происходит, то это в каком-то смысле отрицание того, что происходит, это противодействует смыслу того, что происходит. Поэтому я даже рад, что нет такой преграды, такого высокого иконостаса или вообще нет иконостаса. И, конечно, надо прибавить, что у многих православных, которые служат в чужих храмах, то есть в неправославных храмах, получается то же самое. Не все, может быть, этим довольны так, как я доволен, но мы все могли бы задуматься об этом как о достижении, а не как о лишении чего-то. Тем более не надо считать, что это лишение чего-то важного и исконного. В конце концов, такие высокие иконостасы, такие преграды появились только в рублевское время, то есть в конце XIV — начале XV века. Раньше были только преграды, и скромные преграды, которые ограждали престол, но не прятали престол и священнодействие от прихожан.
— Отец Сергий, Вы служите, используя тот язык, на котором говорят все или большинство людей в храме и за пределами храма — английский язык. Насколько я знаю, большинство православных церквей, принадлежащих Русской Православной Церкви, но находящихся за рубежом, используют церковнославянский язык и даже в Иерусалиме служат по-церковнославянски. С чем это связано, как начинались английские службы в Сурожской епархии? Я знаю, что у истоков этого стоял сам митрополит Сурожский Антоний, и благодаря ему и сотрудничеству с ним это преобразование произошло. Какие преимущества вам это дало и зачем вы это сделали?
— Ну, зачем? На это просто можно ответить: мы должны понимать то, что мы творим, то, что мы создаем. И совершенно кощунственно было бы служить на чужом языке, который не понимается даже служащими, не говоря уже о присутствующих. Но тут нужно сразу добавить, что присутствующие по-своему сослужат во всем том, что происходит. Нужен язык, который был бы понятен так, как был понятен, скажем, евангельский язык, греческий язык тех времен — простой язык тех, кто писал Евангелие первоначально и читал Евангелие первоначально. Так и повсюду церковный язык должен быть понятен и знаком — не только понятен, но и знаком тем, кто участвует в богослужении. Древний мир имел и греческий язык, и латинский язык, но мало пользовался древнееврейским языком, хотя и мог бы. Были такие священные языки, иногда даже связывали их святость с тем, что надпись на кресте была сделана на этих трех языках. Но и до святых Кирилла и Мефодия показано было, скажем, сирийским миром, что это не единственные, не исключительные языки для священнодействия, для богослужения. Но при святых Мефодии и Кирилле было ясно показано, что и славяне, которые не понимают ни по-гречески, ни по-латыни, должны служить по-своему. Это значит, что любой народ, любая народность должны иметь в церкви свой язык. И то, что тогда понимали новосозданный и новооформленный церковнославянский язык, совсем не значит, что он навсегда должен быть главным или единственным языком даже для славян. Например, св. Стефан Пермский в XIV веке перевел богослужение на язык пермских жителей — на зырянский язык. И каждый миссионер должен в первую очередь подумать о пастве, о нуждах паствы, чтобы все понимали — какое совершается жертвоприношение, или какое совершается священнодействие. Нам, пользующимся, скажем, английским языком в Англии, или уэльским языком в Великобритании, или, скажем, французским языком в Бельгии, или фламандским языком в Бельгии или голландским языком в Голландии, немецким языком в Германии и, конечно, японским языком в Японии, непонятно, почему русские в каком-то смысле исключены из тех народов, которые могут пользоваться и должны пользоваться своим родным языком.
— Русским языком, Вы имеете в виду?
— Русским языком. Ведь это становится редкостью, можно было бы даже сказать — печальной редкостью, что какой-то народ служит на таком устарелом и малопонятном языке. Дело не в древности этого языка, а в непонятности этого языка. Но на нем почему-то служат всегда и непрестанно, невзирая на нужды церковного народа, который в конце концов этим отстраняется от богослужения. Тут надо сказать — да, мы служим на английском языке. Но ставится еще новый вопрос: можно ли пользоваться благочестивым языком шекспировских времен, языком прекрасного перевода Библии тех времен, то есть сделанного чуть ли не 400 лет тому назад. Есть такие переводы. Но в конце концов и это становится неприемлемым. И в нашей епархии как раз в эти дни работает маленькая комиссия (я член этой комиссии, а возглавляет ее епископ Сергиевский Василий (Осборн)), которая создает новый, свежий, проверенный перевод. Эта комиссия занимается новым свежим и проверенным переводом, пользуясь греческим подлинником, но опираясь также и на славянский перевод, поскольку и там есть важные варианты, которыми мы также хотим пользоваться, и обновляя тот английский язык, который к нашему времени уже устарел, хотя, может быть, и был приемлем для англикан и для других верующих 50–70 лет тому назад, когда и англиканское благочестие питалось старым английским языком. А теперь настало совсем другое время. И чтобы показать нам, что это возможно, в греческой епархии Великобритании был создан совершенно свежий перевод с греческого подлинника, издающийся параллельно с греческим текстом, где применяется только современный и очень подчеркнуто современный английский язык. Он немножко испугал многих из нас тем, что, скажем, на литургии к Богу обращаются не на «Ты», что по-английски звучит несколько высокопарно и старомодно, так как нет уже «Ты» на английском языке. Обращается Церковь к Богу на «Вы», как и положено в современном английском языке. Мы от этого отказались, соборно отказались (не я лично — я даже жалею, что мы отказались), но взялись все-таки за этот новый перевод с греческого подлинника, и поправляем его, слегка смягчая ту современность, ту свежесть, которая там есть, чтобы создать, да, новый, свежий и современный перевод, но не абсолютно свежий и не слишком современный. Но все-таки это важный шаг в том смысле, что мы не только все еще пользуемся английским языком, но и особенно стремимся к тому, чтобы этот язык был настоящим, чтобы мы никак не прятались за искусственным, даже красивым искусственным языком, когда мы обращаемся к Богу.
— Может быть, английский, или японский, или, в конце концов, для русских — русский и более понятен, но ведь церковнославянский особенно приятен для восприятия, и люди привыкли к нему: он красив, благозвучен, он сочетается с образом храма, с иконами, с песнопениями. Люди настолько любят и настолько принимают, пусть не очень понимая, этот язык, что порой некоторые, благочестиво ошибаясь, даже считают, что Сам Христос говорил по-церковнославянски. Даже в вашем приходе есть русские, как же эти люди лишаются своего предания, векового предания?
— Нет, никого не надо ранить, никого не надо отчуждать реформами какими бы то ни было, даже оправданными реформами. Вот, например, завтра, когда я буду служить литургию, я буду употреблять не только более или менее современный английский язык, но и церковнославянский язык — для того, чтобы поддержать как раз таких людей, которые ищут в церкви такое благолепие и такое предание. Но тут важный момент: нельзя пользоваться только церковнославянским языком, даже по тем причинам, которые Вы только что перечислили, потому что если следовать Вашим принципам, или тем принципам, о которых Вы говорите, то в конце концов получается церковная жизнь, которая отождествляется с музейной жизнью. Церковь становится музеем — хранилищем всего красивого, всего прекрасного нашего предания, но тогда чем высокопарней все это, чем более возвышенно, чем менее понятно, тем лучше. Но в конце концов Церковь не для того существует (и для этого никак не мог воплотиться Христос), чтобы мы как-то особенно красиво воспевали какую-то красивую мелодию, пользуясь каким-то красивым непонятным языком. Господь воплотился по-настоящему и жертвенно, лишаясь всякого благолепия, поэтому и мы также должны опасаться всякого благолепия, чтобы лучше понять, лучше воспринять и лучше применить ту Истину, которая и есть Христос в воплощенном виде.
— Ваш приход можно с полным правом назвать миссионерским. Соответственно, Вас я с полной уверенностью назову миссионером: Вы ведете эту работу уже давно и представляете в Англии Русскую Православную Церковь. Я же хочу у Вас спросить о внутренней миссии, то есть о миссии внутри России. Это же огромное неохваченное поле. Не думали ли Вы перенести, принести эту миссию в Россию, где она так нужна сейчас?
— О себе лично я не имел такого представления, что я могу, скажем, переехать в Россию, или чтобы мы, как церковная единица, могли бы перенести нашу деятельность в Россию. Единственное, что я могу сказать, это то, что даже не переезжая туда (что трудно во многих отношениях, в том числе и психологических, и социальных, не говоря уже о денежных проблемах), мы, пользуясь достижениями современной техники, можем нашими радиопередачами чем-то поделиться из нашего опыта, из нашего понимания, из нашего созерцания. Конечно, это не все, что можно делать, но я рад, что хоть это можно делать. И этим я уже занимаюсь 15 лет, 20 лет — даже не помню, когда все это началось. То есть, это раньше началось, еще до меня, но я рад, что этим занимаюсь. На днях в Оксфорде, в институте Кестона как раз было совещание о миссионерской деятельности, особенно западных миссионеров в России. Я присутствовал как гость, и может быть полушутя, может быть в качестве упрека какой-то русский представитель, когда меня представили, не сказав откуда я точно и каков мой приход, спросил: «А приход какой?» Я также полушутя, конечно, ответил: «Многомиллионный». Это, конечно, гордо звучит и, конечно, это не мой приход, но тем не менее, хотя приход у нас в самом деле маленький, а тот «приход», который в каком-то смысле мне доступен, он не мой приход, но эта моя обязанность перед этим многомиллионным «приходом» является настоящей, и это поле моей деятельности и поле нашей деятельности. Мне дается там возможность хоть что-то принести очень многим потерянным христианам, и православным, и неправославным, каждый из которых нуждается в помощи, поддержке и просветлении.
— Вы совершенно правильно сказали про многомиллионный приход. Действительно, в России о. Сергий Гаккель во многом известен именно как создатель и вещатель религиозного журнала «Воскресение». Но как трансформировалась, как изменилась направленность журнала в течение этих 30 лет, когда в России произошло огромное количество изменений? Что Вас больше всего волнует в данный момент, о чем у Вас болит душа, и что Вы хотите поведать русской аудитории?
— Да, в самом деле, деятельность нашей программы очень изменилась по своему характеру в течение этих лет. И, конечно, надо сказать, что то, что мы сейчас передаем, это совсем не то, что передавалось раньше, в годы глушения, в годы преследования веры в Советском Союзе. Было такое время, еще до моего участия в этой программе, когда главным образом передавались церковные службы, и церковные службы, и церковные службы… Тогда большинство храмов в Советском Союзе были закрыты, и мало кто слыхал церковное песнопение даже на славянском языке, ни на каком языке ничего не было слышно. Тогда проповедовал уже митрополит Антоний — или архиепископ, или епископ Антоний, или отец Антоний, — и это был единственный голос такого священнослужителя (я говорю только о передачах Би-Би-Си, я не говорю об Америке, где отец Александр Шмеман то же самое делал по «Голосу Америки» и по «Свободе»). И поэтому, конечно, к нему особенная тяга русских верующих, ведь только от него, от одного-единственного архиерея слышали они церковную правду, церковное слово, слово Христово. Теперь все изменилось: службы, может быть, уже совсем не нужны, поскольку за каждым углом, на каждом шагу можно войти в открытый храм, и жалко, что только небольшое количество людей находит эти храмы и молится там (это уже говоря о действительности). Поэтому передавать добавочные церковные службы совсем не приходится. И мы уже болеем не об отсутствии церквей, не об отсутствии служб, и даже не об отсутствии проповедей, а о морали, о праведном поведении людей, о том, что люди тем не менее — несмотря на службы, несмотря на проповеди, несмотря на присутствие пастырей на каждом углу, все-таки без пастыря блуждают, не находят свой путь, не могут с уважением относиться друг ко другу, содействовать друг другу и помогать всем нуждающимся, число которых все растет и растет по всей России: матерей-одиночек, калек, бездомных, людей, которые потеряли почти полностью свою пенсию, инвалидов. Тут огромное количество людей, которым всем надо помогать, и о существовании которых надо напоминать из часа в час, из года в год. Для того, чтобы как следует им помогать, не только подачками разными, но и всесердечно, полностью, по-человечески, надо помочь людям осознать — что такое человек, какие его возможности и обязанности. И в области пастырского богословия также можно создавать нужные и полезные программы. Очень хотелось бы, чтобы мы привыкли, что для того, чтобы каким-то образом доказать свою правоту, свою веру, не надо стремиться просто опровергнуть веру чужого нашего брата — католика, скажем, квакера, иудея или мусульманина. Их вера также должна пользоваться уважением. Мы можем и к ним относиться с любовью и давать и им возможность сказать о себе и доказать свое достоинство. Значит, мы можем и должны заниматься межрелигиозным диалогом, мы можем и должны заниматься межконфессиональным диалогом. Не для того, чтобы получалась какая-то общепризнанная сумма всех существующих учений, но для того, чтобы дать всем возможность лучше проникнуть, и понять, и оценить веру соседа, веру чужого, веру может быть очень странную во многих отношениях, но тем не менее ценную и важную, мы еще не знаем в каком отношении. Бог один знает, почему существует такое разнообразие церквей. И надо допускать, что и та, и другая вера в каком-то смысле и до какой-то степени, а может, и со всей полнотой доводит людей до Самого Бога. Ведь в Евангелии сказано, что и с Севера и с Юга, с Востока и с Запада придут люди, которые первыми войдут в Царствие Небесное, опережая призванный народ иудейский. Этого, конечно, иудеи не могли ожидать. Но и сами мы должны допустить, что и наша вера находится в таком же положении: будь то вера православная, будь то вера католическая или другая, — что и нас могут опережать самые разные веры, а мы совсем этого и не можем ожидать и будем даже оскорбляться, что это в самом деле так.
— Для того, чтобы вести такую деятельность, для того, чтобы проводить межконфессиональные диалоги, нужно раз и навсегда осознать, что конфессиональное разделение, разделение церквей, является неправильным, недолжным, принять разделение как грех, и уже как плод покаяния принести процесс какого-то совместного действия. Но насколько сейчас доступно православному русскому уху такое понимание, и как понять, что это разделение греховно?
— Основная истина христианской церкви — это слова Спасителя да будут все едино
. Если мы не едины, значит что-то плохое произошло, значит грех. Как исправить этот грех — это другое дело, но мы должны чувствовать, что это наша обязанность. А просто принимать как должное, как хорошее, как праведное те разделения, которые произошли давным-давно и иногда по совершенно чуждым нам и по чуждым Церкви причинам — это безответственно и безответственно в самом глубоком смысле этого слова. Как будто мы не отвечаем за то, что произошло. А мы в самом деле отвечаем, потому что мы, хотя и не участники того, что произошло, но все-таки принимаем все последствия и принимаем пассивно. Пассивно же их принимать мы не должны. Конечно, это не значит, что мы можем опровергнуть то, что было решено на каких-либо святых и даже Вселенских соборах. Но одно дело нам показывает, насколько могли ошибаться и они, те великие Вселенские соборы, которые принимали решения, например, о разделении между монофизитами, как мы часто их тогда называли, и православными. Это те церкви, что мы называем теперь Восточными православными церквами, которые находятся, ну, скажем, в расколе с Православной церковью. Мы говорим в данном случае об Эфиопской церкви, о Коптской церкви, об Армянской церкви, о Сирийской церкви — не православных по нашему определению. Но вот в последние десятилетия собираются богословы Православной церкви и Восточных церквей, тех, о которых я сейчас говорю, и без всяких натяжек, очень добросовестно занимаясь этим делом, определяют, что решения тех времен — 1600 лет тому назад — ошибочны, необоснованны, несправедливы, и что мы поэтому можем и должны заново все это продумать и вернуться к единству, и как можно скорее. До сих пор приняли это решение именно богословы и видные богословы всех заинтересованных церквей. Теперь должны применять эти решения церковные власти: патриархи и соборы всех поместных церквей, чем и занимаются некоторые из них. Вот, например, патриарх Коптский Шенуда разъезжает по всем странам православного мира, уговаривая каждого патриарха каждого священного синода, что это должно быть, и что мы должны, и в скором будущем должны, приступить к принятию того соглашения, которое по существу уже есть. Мы уже не враждуем друг с другом, мы уже не разделены: никакие принципы, никакие вероучения нас не разделяют. А если так, то, конечно, должны мы действовать и дальше: понимать и применять эти решения богословских комиссий и объединяться опять в ту единую, святую и соборную Церковь, которая в действительности и не была разделена, несмотря на решения разных великих соборов, в том числе и Халкидонского собора 451 года. Это только один пример, но этот пример существует, а кто бы мог подумать, скажем, во времена до епископа Порфирия Успенского в XIX веке, что такие действия могут иметь место. Если такие деяния предстоят, тогда, конечно, предстоят и другие деяния, другие шаги. Например, по отношению к Католической церкви, с которой нас очень мало что разделяет, и к единению с которой очень многие стремятся, в том числе, с их стороны, и папа Римский. Многие боятся его объятий, считают, что это ложный шаг, лишь бы завоевать какую-то новую позицию по отношению к православному миру. Но это мелкие мысли и мелкие мыслители, кто так мыслит. Надо нам принять всерьез то, что нас объединяет, а не только то, что нас разъединяет, и тогда мы сможем с нужной серьезностью, добросовестностью и верою заняться и теми вещами, которые нас до сих пор разъединяют, чем и занимается общая католическая и православная богословская комиссия, которая время от времени собирается и пытается продвинуться дальше по этому пути. Это уже второй пример, но найдется еще третий, четвертый, пятый… в том числе и невероятные примеры, о которых в данный момент даже нельзя подумать, то есть они просто не приходят нам в голову, до такой степени они невероятны и необычны, что совсем еще не значит, что невозможны. То, что невозможно в данный момент, тоже надо принимать всерьез. Нельзя отказываться от невозможного, нельзя говорить, что то или другое невозможно, не приступив даже к данному делу. Опасаться нечего. Жертвенно продвигаться — несмотря на осмеяние, на хулу, на разочарования, на унижения, которые переживают те или другие члены нашей церкви или той церкви, с которой мы ведем или хотим вести какой-нибудь диалог. Уступать этим чувствам было бы грешно и боязливо.
— Ну, в конце концов, вопрос христианского экуменического движения христиане так или иначе, рано или поздно понимают и воспринимают, вчитываясь в слова Евангелия. Православные люди тоже рано или поздно приходят к вселенскому пониманию Церкви, и во Всемирном Совете Церквей православные тоже участвуют как наблюдатели или как активные деятели. Но Вы упомянули вопрос и проблему отношений с иудеями, и я знаю, что в своих речах и выступлениях Вы сейчас наиболее остро поднимаете этот вопрос. Я также знаю, что РПЦ сейчас славится своей антисемитской направленностью. С этим ли связана Ваша деятельность на этом поприще?
— Не только с этим, хотя против антисемитизма, находится ли он на почве РПЦ или просто в окружении РПЦ, то есть в России как таковой, надо бороться и всегда надо бороться. Но это вопрос и всемирного масштаба.
— Отец Сергий, упоминание этой проблемы мне кажется немного странным, потому что христиане сейчас с трудом разбираются сами с собой, друг с другом, и проблемы эти неразрешимы веками. Не кажется ли Вам, что больше, чем достаточно, христианам заботиться еще и об иудеях?
— Трудно сказать, кем не надо нам заниматься. Мы должны принимать в учет всех и повсюду. И вот главное, чего не хватает — это любви ко всем и ко всему. Это не значит, что мы должны всё и всегда принимать таким, каково оно есть, но с любовью относиться, со вниманием относиться, с уважением относиться даже к чужим явлениям — это, я думаю, часть нормальной христианской жизни. А разве еврейскую веру можно считать чужим явлением? Наши корни, наши общехристианские корни, в том числе, конечно, и православные корни именно в ней, в еврейской вере Самого Спасителя нашего Иисуса Христа. И отвергать все, что было и есть эта вера, это своего рода святотатство, отказ от своего прошлого и отказ от нужного элемента, который может и сейчас быть, — в том смысле, что мы до сих пор можем питаться той верой.
Мы чаще всего говорим: «Нет, надо иудеев переводить в православие или в христианство. У них такой недостаток, что они не поверили в Спасителя, распяли его». Мы говорим, то есть не я говорю, а часто говорится, что они Его распяли. Это, значит, вечный такой грех. Забывают при этом, что в конце концов, главные, кто распинали Спасителя — это римляне, с участием, может быть, иудеев, евреев, но не без обязательного участия римлян. Приписывать же иудеям как таковым, евреям как таковым такой грех совершенно непростительно, невозможно и не по-христиански, так же как нельзя и римлянам приписывать этот грех во веки веков. Это означало бы как-то отрицательно относиться к теперешним итальянцам, к Риму теперешнему, потому что в свое время представитель Римской империи решил распять нашего Спасителя. Так что тут, как и вообще во всех таких вопросах, должна преобладать любовь, внимательность, терпение, и мы должны питать все это своей работой. Вот как раз такой работой я и занимаюсь, и многие занимаются.
В Великобритании это хорошо поставленное дело: дружба с иудаистами, совместные обсуждения разных трудных вопросов. Конечно, у нас есть трудные вопросы. И это уже с сорок второго года нашего столетия, то есть со времени войны, было основано и пущено в ход в Великобритании, и это распространяется по всему миру, и хорошо, что распространяется, и в Америке, и в Европе, и в других странах мира. Чтобы сблизить, хотя бы сблизить иудаистов с христианами, да, конечно, мы должны заниматься этим делом, тем более, что есть такие совершенно ложные представления у некоторых русских, я говорю не только о православных, а у ряда русских вообще, но и у православных в том числе, о вреде, который приносят иудаисты или евреи во всемирную историю.
К сожалению, до сих пор используются при этом совершенно ложные документы, например, так называемые «Протоколы сионских мудрецов» — эта фальсификация XIX века, которую давно надо было бы отвергнуть, если не сжечь. Ведь это до такой степени немыслимо ложная вещь, которой, надо сказать, особенно удачно пользовались нацисты, в том числе их главный «философ» Розенберг, в преследовании евреев в нацистский период по всей Европе! Жалко, что как раз покойный митрополит Иоанн Петербуржский взялся и за эту фальсификацию: он очень осторожно иногда говорил, что не вполне доказано, что это фальсификация, и поэтому пользовался ее изречениями, мыслями, доводами. На самом деле доказано, что это фальсификация. И все это приводит к ненависти, к столкновениям, в конце концов и к погромам, страшнейшие из которых мы пережили в течение нашего XX века — при нацистах, при холокосте, при истреблении еврейского народа, которым и занялся Третий рейх. И это давно должно было бы нам показать, к какому злу ведет это отрицательное отношение, которое привело к этой фальсификации, к этим фальшивым учениям, к отрицательным учениям о евреях и об иудаизме. Тут я приведу одну фразу святейшего патриарха Алексия II. Когда у меня один раз было с ним интервью, он, отвечая на вопросы о его выступлении в Америке по поводу нашего, то есть христианского, родства с иудаизмом, сказал: «Я против всякого рода антисемитизма, какого бы то ни было толка». И это хотя бы начальное положение для каждого из нас. Это только отрицание антисемитизма, но надо идти дальше: надо и положительно строить, надо углубляться во все наши общие вопросы и проблемы. Но хотя бы это каждый должен считать своим долгом — отрицать всякого рода антисемитизм.
— Антисемитская направленность в церкви — это тоже проблема не новая. Сейчас я говорю вообще о христианской церкви, не только о православной, где, может быть, это наиболее трудно. Как Вы правильно сказали, отрицание антисемитизма — это лишь начало, начало новой работы. Но наверное, корень зла лежит не в самом антисемитизме, а в оскудении любви, которое особенно характерно для нашего времени. Какие опасности Вы видите в связи с этим?
— Такое оскудение, конечно, вещь ужасно опасная, но я не смею говорить об оскудении любви только в наше время. Я думаю, это всегда было опасностью: и во времена Спасителя, и в Средние века, и в XIX веке. В любом обществе и в любом веке. Любовь надо всегда возгревать, насыщать, надо питать ее, надо бережно относиться к любви, а то она в самом деле оскудеет. Сама по себе она не существует так свободно в нашем падшем мире. Поэтому я бы не сказал, что именно в наши времена существует такое новое явление — оскудение любви. Возгревать, развивать, возвышать любовь — это постоянная нужда. А постоянная опасность в том, что мы готовы на оскудение любви. Нам даже легче: не надо так трудиться, не надо так заботиться о других, можно довольствоваться разными своими достижениями и благами. И то, что другие нуждаются в нашей любви, в нашей помощи, в нашей поддержке — это может нас не беспокоить. И тогда мы живем спокойно и в довольстве, что ужасно опасно, и что именно самое опасное для веры христианской.
— Любовь — это всегда труд: постоянный, непрестанный, и неустанный. Мы знаем такое определение Бога: Бог есть Любовь, и вполне можем перенести это понимание на Церковь. Где Церковь, там есть Бог, там есть Любовь. Как Вы, пастырь, доносите это понимание до своих прихожан? Какими словами Вы приближаете это понимание?
— Ужасно трудный вопрос. В конце концов, я думаю, никакие слова никого не приблизят к Любви, если они не слова, которые выражают любовь, то есть, которые относятся к настоящей любви того, кто их произносит. Поэтому надо быть таким человеком, который и есть любовь, который испытывает любовь, который выражает любовь. Нельзя говорить что-то о любви, если этого элемента нет. На радио, когда нет прямого контакта со слушателями, еще труднее показать, что в основе того, что сказано, лежит подлинная любовь. Я думаю, что только тоном голоса можно что-то сказать и то не всегда, и не всегда удачно. Тут можно сразу обратиться к евангельским словам, к апостольским посланиям, к пророкам и так далее. Можно и к мученикам, и в особенности к новомученикам обратиться, цитируя их, но цитируя не как литературные цитаты, а именно как то, что помогает этому человеку изливать и показывать свою подлинную любовь. Это такая особая проба, это как серебро, как золото: иногда что-то блестит, и можно сказать, что это у Вас серебро. Но если есть проба, если марка нужная стоит, тогда это уже раз и навсегда подтверждает, что да, это и есть чистое золото, чистое серебро. Также и любовь должна являться «пробой».
— Есть рассказ, как один католический священник на недоумение благочестивого монаха об излишней роскоши в убранстве храмов сказал, что все великолепие храмов, красота и позолота — это лишь достойное обрамление той жемчужины, которая есть Христос. Куда бы Вы сейчас поместили эту жемчужину, в какую оправу?
— Главное — это, конечно, жемчужина, а не оправа. В течение многих веков это нам постоянно показывали аскеты нашей Церкви, подвижники нашей Церкви. Вот святой Франциск Ассизский, скажем, тоже показал нам пример, как от всего можно отказаться, даже от храма можно отказаться, от всяких одеяний можно отказаться, от облачения, не говоря уже о самих жемчугах, золоте и серебре. Так действовал человек, который в юности привык к богатству, но полностью отказался от всего. Так и св. Антоний Великий — подвижник египетский, один из основателей православного и всемирного монашества, и он отказался от богатства для того, чтобы не отвлекаться ничем материальным при служении воплощенному, смиренно воплощенному, кинетически воплощенному Сыну Божию. Так что есть такое очень положительное предание. Конечно, архиереи, вельможи всех веков христианства не обращали на это никакого внимания, и есть огромные сокровища сомнительного рода, когда церковь зарабатывала огромные деньги, пользовалась огромными деньгами для того, чтобы показать наяву, какова сила христианства, какое есть благолепие у христианства, для того, чтобы убедить себя, убедить публику, что надо в самом деле поклоняться нашему Богу, Который в такой силе и блеске показывается людям. Но вспоминается при этом и Золотой телец в пустыне при Моисее. Легко отвлекать людей от подлинного Бога, от подлинной веры разными золотыми телятами. Но вот кто не соблазнялся на это, можно дать такие примеры: преподобный Сергий Радонежский служил, пользуясь деревянной чашей для Евхаристии. Деревянной, простой, народной, можно сказать. Преподобный Нил Сорский отказывался от всякого показа, от всякого блеска, от всякого металла даже, чтобы простой деревянный крест воссиял по-настоящему в сердцах людей и чтобы не оказывали на людей совершенно ложное влияние драгоценности мира сего.
Насчет драгоценностей мира сего вспоминается конфискация всех церковных драгоценностей в 1922 году при советском правительстве, которое пользовалось тогда голодом на Волге и всеобщим голодом для того, чтобы забрать у церкви то, что придавало ей какую-то власть, какое-то значение, какой-то блеск — имущество всякого рода, в том числе изделия из драгоценных металлов: из золота и серебра, и украшения из всяких жемчужин. Конечно, это был ложный повод, чтобы преследовать церковь и веру, но церковные власти, в том числе и св. новомученик митрополит Петроградский Вениамин, охотно готовы были пожертвовать и пожертвовали все, что могли, и что церковь могла — лишь бы не самые святые вещи — для того, чтобы спасти ближнего, для того, чтобы помочь голодающим. Тем не менее, его казнили за то, что он якобы скрывал церковные ценности, не отдавал их. Это, конечно, был совершенно ложный суд, и к тому же ложный был повод к этому суду, тем более, что большие драгоценности в действительности совсем и не передавались на пользу голодающим.
Тем не менее, митрополит Вениамин показал нам совершенно правильный путь: от всего этого можно отказаться, от всего этого даже надо отказаться, если любовь человеческая, если любовь христианская требует этого, если мы пользуемся какими-то драгоценностями, а при этом погибает наш брат. Закон любви — самый главный. При этом вспоминается, как смиренно определяется роль самых великих вельмож, в том числе и роль папы Римского, который с древности носит очень важный титул — раб рабов Божиих, служитель служителей Божиих. Смиреннее определить роль даже такого патриарха, даже такого вельможи нельзя. А это напоминает нам и о служении Самого Спасителя, и о том служении, которое Он завещал Своим последователям: апостолам и ученикам.
Беседовала Елена Наринская
Лондон, июнь 1997