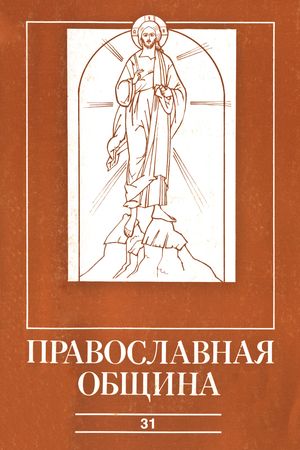Об изучении средневековой истории русской церкви
Теперь в России не возбраняется заниматься историей церкви. Одна за другой выходят исторические книга на церковные темы — то о. Сергии Радонежском, то о канонизации святых. Но, к сожалению, впечатление от новых публикаций такое, будто все уже слишком знакомо, много раз читано. Разница лишь в том, что до 1917 г. церковные подвижники аттестовались как святые и народные герои, затем — как феодалы и клерикалы, а теперь опять — как святые и народные герои. Как и в общественной жизни, где вдруг на правах новых обнаруживаются идеи 70-летней давности, в исторической науке скорее идет процесс припоминания, чем действительного творчества. Увлекаемый уже сложившимся путем историографии, нынешний автор безвольно следует по привычному руслу.
Историографические заметки о традициях и идеях изучения средневековой церкви, возможно, покажут читателю, как постепенно сформировался в светской науке исторический образ православия. Другая задача — указать на неполноту и ограниченность этого образа. Если мы действительно хотим добиться нового понимания церковной истории, мы должны уметь подняться над историографической традицией, т. е. оценить эту традицию в историографической перспективе.
Архиепископ Филарет в отзыве на труды талантливого историка русской церкви Евгения Болховитинова отмечал у автора «бездействие размышляющей силы». Филарет понимал под «размышляющей силой» склонность историка к спекулятивным заключениям. Однако в церковно-исторической науке, как в историографии вообще, идеи часто выступают в превращенном виде, принимая невинный и по видимости деперсонифицированный облик. Так, историк может не выдвигать собственных идей, но лишь выбирать те или иные общие идеи эпохи, которые, в соединении с его материалом, образуют поле нового смысла. Карамзин, разделяя убеждение современников в созидающей силе государства и монархии, своей «Историей» стремился лишь отыскать в прошлом и предъявить читателям бесспорные доказательства общей и не новой идеи.
В отличие от стран Западной Европы, где церковная история являлась предметом острой полемики в эпоху Реформации и, тем самым, были выработаны соответствующие приемы исторической критики, Россия не имела опыта церковно-исторической экзегезы. Поэтому, когда в начале XIX столетия «скептиками» (Каченовским и др.) была начата дискуссия о достоверности легендарных известий русской истории, Комиссия духовных училищ потребовала от преподавателей церковной истории избегать «усиленного критицизма» и взамен научных споров излагать учащимся «следы Провидения Божия». Со времен «Степенной книги» 1550–60-х годов русскому читателю было ясно, как следует писать историю государства — как историю деяний сменяющих друг друга монархов. Таким же образом пытался изложить материалы по церковной истории митрополит Платон (1805 г.), соединяя летописные факты государственной истории с краткими известиями церковного характера. Евгений Болховитинов назвал труд Платона «не историей, а летописью».
Другой способ изложения русской церковной истории еще в начале 1740-х годов предложил датчанин Адам Селль. Как и положено секуляризованному европейцу, Селль понимал церковь только как институциональное образование, поэтому собирал материалы для характеристики разных сторон управленческой деятельности церкви по разделам: епархии, митрополия, патриархат, Синод, соборы, святые подвижники, духовное образование, монастыри. Работа Селля в отредактированном и дополненном виде была опубликована лишь в начале XIX века стараниями Евгения Болховитинова и под именем архимандрита Амвросия.
Второй путь, казалось бы, более соответствовал общим тенденциям развития историографии первой трети XIX столетия. История церкви в этом случае должна была создаваться тем же путем, что и гражданская история, т. е. пройти длинный этап сбора фактов, археографического поиска. Следуя этой парадигме, П.М. Строев начал работу над списком «Иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви» (опубликованным посмертно в 1881 г.), а Я.И. Бередников напечатал около двухсот документов по истории церкви в сериях «Акты, собранные… археографической экспедицией», «Акты исторические», «Дополнения к актам историческим».
Между тем, общественные потребности все настоятельнее вмешивались в сферу исторических дисциплин. Полевой опубликовал антикарамзинскую «Историю русского народа». Продолжающиеся споры о будущем России, как известно, породили уваровскую триаду: самодержавие, православие, народность. Два звена из этой трехчленной схемы в той или иной степени уже были определены: Карамзин описал самодержавие. Полевой (а также Сахаров и др.) дал очерк народного быта. Очередь была за православием. В этом контексте сухая история церкви как институции уже не была удовлетворительна. Требовалась иная историко-философская концепция (или мифологема) церковной истории, которая могла бы послужить коррелятом православной идеи. Такую концепцию впервые сформулировал архиепископ Филарет (1847–1848).
«История» Филарета вписывает церковное прошлое в политический и культурный быт Руси, демонстрируя близость, но неслиянность государственных и церковных институций. Периодизация материала у Филарета опирается на факты внутренней истории церкви: изменения, связанные с монгольским нашествием, разделение митрополии, учреждение патриаршества. Филарет не упустил из виду задачи зашиты и исторического оправдания православия. Автор увлекается описаниями легенд и поверий, народной религиозности, церковной литературы, иногда выводит из давних событий нравоучение. Воспитательные цели его «Истории» несомненны.
В это же время предпринимается первая попытка скрестить историю церкви с политической и социальной историей. В.А. Милютин (1850) описал споры между монахами XV-XVI столетий как подготовку будущей государственной секуляризации церковных земель, а А.С. Павлов (1871) прямо связал внутрицерковные споры о землях с развитием процесса централизации Русского государства. По мнению Павлова, церковные вотчинники вместе с боярством были опорой сил децентрализации, а «нестяжатели», требовавшие изъятия церковных земель, выступали как сторонники централизаторской политики. Земли, конфискованные у церкви, должны были составить поместный фонд для испомещения дворянства.
Вторая попытка вписать историю церкви в историю гражданского общества — известные лекции С.В. Ешевского (1857) и курс С.М. Соловьева, где стремительное расширение территории России в XVI-XVII веках во многом объяснялось монастырской колонизацией. Так внимание светских историков было привлечено к проблемам монашеской организации русской церкви.
Третье связующее звено между гражданской и церковной историей было исследовано А.П. Щаповым (с 1859 г.), а позднее — и В.0. Ключевским. История церкви и церковных разделений описывалась как выражение народной религиозности и народного духа. Особенно большое влияние эта парадигма исследования оказала на историографию раскола XVII столетия. Ключевский, приступая к работе над «Житиями святых», также ставил себе задачу описать не столько агиографические сочинения, сколько дать очерк народного духа средневековой словесности.
«История русской церкви» Макария (1859–1881) существенно отличается от книги Филарета. Макарий также защищает православие, но использует для этого полемическое богословие, концентрируя свое внимание на спорах и разделениях между христианскими церквами. Макарий впервые включил в свою «Историю» немало новых источников. Обилие цитат у Макария производит особое впечатление на читателя: кажется, что история православия превращена в историю текстов по истории церкви. Главная идея периодизации у Макария — не историческая, а каноническая: он выделяет эпохи в истории церкви на основании изменяющегося характера связей между Константинопольским патриархатом и славянскими церквами — до окончательного разделения Константинополя и Москвы, автокефалия и т. д.
С конца 50-х годов и особенно в 60-е годы XIX века началось яростное обсуждение истории средневековых ересей, особенно так называемой ереси «жидовствующих». Показательно, что даже при анализе еретических сект, где особенно мог быть полезен историко-догматический опыт церкви, историки довольствовались лексиконом журнальной полемики: язык описания новгородско-московской ереси в историографии скорее напоминает споры по поводу крестьянской реформы — «либералы», «клерикалы», «гуманисты».
М.И. Горчаков в 1871 г. издал описание земельной политики митрополичьей (впоследствии патриаршей) кафедры и Святейшего Синода. Это исследование послужило образцом для многих работ, трактующих историю церкви как историю церковного землевладения.
Классический труд Е.Е. Голубинского (опубликован в 1880–1917 гг.) при всем его своеобразии повторяет подход Макария: у Голубинского история церкви — это история текстов. Автор цитирует и толкует цитаты из церковных посланий, опубликованных в «Актах исторических», «Актах археографической экспедиции», «Русской исторической библиотеки» (т. 6). Общие социологические идеи, подобные секуляризационной концепции Милютина-Павлова, не увлекали Голубинского. Следуя новейшей терминологии, мы назовем автора скорее источниковедом, чем историком. Голубинский готов тщательно разбирать достоверность своих источников, однако мало внимания уделяет толкованию исторических событий. Особенно прискорбной кажется чрезвычайная сосредоточенность автора на истории Северо-Восточной, т. е. собственно Московской, части митрополии. Если Макарий посвятил целый том истории Киевско-Литовской части митрополии (т. 9), то Голубинский ограничился беглыми замечаниями о «западно-русских епархиях» в рассказе о разделах митрополии XIV столетия, а затем в 1415–1420 и 1458–1460 гг.
В начале XX столетия обострились споры о будущих реформах церкви. Это вызвало полемику по поводу социальной роли церкви в средневековой Руси. С.И. Смирнов опубликовал корпус пенитенциарных статей XI-XVI веков и серию исследований о благотворительной деятельности монашества и средневековом институте духовничества. Усиление либеральных настроений заставило некоторых историков обратить внимание на опыт земского самоуправления на Русском Севере (М.М. Богословский), в том числе и на участие приходских церквей в решении вопросов, стоявших перед гражданским обществом (А. Папков, С.В. Юшков). Исследовались исторические формы связей между церковной организацией и северной крестьянской, или промысловой, общиной.
Б.Д. Греков в диссертации о Новгородском Доме Святой Софии (1914) продолжил традицию Горчакова: на материалах поземельных грамот он доказал; каким образом действовала феодальная вотчина новгородского архиепископа в социально-политической сфере, с кем сотрудничал владыка, кого стремился подчинить. Прежде Грекова подобную работу на материале Кирилло-Белозерского монастыря опубликовал Н.К. Никольский. А.С. Павлов, В.Н. Бенешевич, С.В. Юшков и другие обратились к церковно-юридическим вопросам. Разбирая состав кормчей книги и редакции легендарных княжеских уставов Владимира и Ярослава, исследователи начали обсуждение правового статуса и административной организации церкви в средневековой Руси.
Так к началу XX столетия постепенно сложился комплекс проблем, лежащих на пересечении собственно церковной и гражданской истории:
борьба за землю и централизация в XV-XVI веках,
церковь и колонизационные проблемы,
церковь как выразитель народной религиозности,
кафедры и монастыри как коллективные землевладельцы,
церковь и ереси,
социальные функции церкви: духовничество и благотворительность,
церковь и земское самоуправление,
юридический статус церковных институтов.
Выделенные нами вопросы, разумеется, не исчерпывают всех проблем средневековой истории Православной церкви. Однако исследователям они казались полным и безусловным выражением всего, что церковь внесла в историю гражданского общества. Остальные предметы, как неверно думали многие, относятся лишь к области богословия и не могут интересовать историков. Именно в таком виде — в виде набора отдельных сюжетов исследования — приняла историю церкви советская историография.
Советский историк обычно, предваряя результаты собственного исследования, определяет отношение к историческим фактам и институциям по шкале прогрессивный — реакционный. Этот немудреный тест церковь всегда проходила с отрицательным результатом. По всем соображениям атеистически ориентированного ученого церковь должна являться реакционным институтом. Например, если считалось, что весь смысл исторического развития России заключался в неуклонной централизации, то церковь обязательно должна была тормозить процесс прогрессивной централизации. Отсюда — несправедливые оценки «нестяжательства» и «иосифлянства». В борьбе церкви с ересями симпатии историка, разумеется, должны были находиться на стороне еретиков, которые будто бы противопоставляли клерикальному православию культуру славянского предвозрождения. Марксистская школа истории в первую очередь опирается на историческую социологию. Однако на советских историков почти не оказала влияния Веберовская социология религии. Взамен Вебера цитировался, как известно, Энгельс, и лишь в одном качестве: утверждая, что под прикрытием религиозных лозунгов народ порой выражает свои действительные требования. Энгельс как бы давал санкцию советским историкам изучать такие институты, как церковь и религия, пускай даже клерикальные и реакционные. Однако во всех прочих вопросах высказывания классиков марксизма по поводу церковной истории оказывались явно недостаточным стимулом для развития научной мысли.
Поэтому развитие советской исторической науки выражалось, в первую очередь, в сокращении сферы исследования. Советская историография в основном неоригинальна и построена на концепциях государственной школы. Марксистская атеистическая доктрина не может признать «прогрессивную» роль церкви, поэтому были практически прекращены публикации об участии церкви в институтах земского самоуправления. Не было и нет «апологетических» публикаций о духовничестве и социальной опеке бедных. Колонизация рассматривалась теперь в первую очередь как крестьянская колонизация, а монастырям отводилась лишь роль эксплуататора, отнимающего у крестьян освоенную землю (И .У. Будовниц). Тема церкви и народной религиозности была решительно преобразована в изучение народного и антицерковного двоеверия, с явным преобладанием языческих элементов (Б.А. Рыбаков).
Новая тема, ставшая особенно популярной в 30–50-е годы, — народные антицерковные выступления. Действительным идеологическим основанием этой темы был не наивный материализм историков, а нескончаемые партийные атеистические кампании. В методологической части названные работы опирались на устаревшие народнические тезисы А.П. Щапова и статьи Энгельса о крестьянской войне в Германии. Именно парадигма демократических антицерковных и антифеодальных массовых движений использовалась историками при описании ересей XIV-XV веков (Н.А. Казакова, Я.С. Лурье, А.И. Клибанов), церковного раскола XVI-XIX столетий (В.Г. Карцев, Н.Н. Покровский), а порой и исследователями так называемых «крестьянских войн» XVII-XVIII веков (В.В. Мавродин).
В одном случае уровень церковно-исторических работ безусловно вырос: речь идет об изучении социально-политической истории таких институтов, как митрополичья кафедра в Северо-Восточной Руси (С.Б. Веселовский, Л.В. Черепнин), митрополичья кафедра в Киеве XI-XIII веков (Я.Н. Щапов), новгородская архиепископия (В.Л. Янин), Волоколамский (А.А. Зимин) и Симонов (Л.И. Ивина) монастыри, а также о разработке общих проблем церковного иммунитета на земли и платежи (С.М. Каштанов). Однако и здесь (это относится к работам Зимина и Черепнина) иногда переоценивается политическое значение поземельных отношений или квалифицированный анализ изменений в земельной сфере без должного основания интерпретируется в духе надысторических идей о борьбе «течений», «направлений» и т. д.
Автор этого обзора предпринял попытку показать, что историографическая концепция «нестяжательства» и вся «история» борьбы церкви и государства за землю для испомещения дворянства — внеисторичный продукт либеральной историографии XIX столетия. «Нестяжатели» и не думали оправдывать секуляризацию церковных земель в пользу служилых сословий, они лишь толковали о необходимости провести внутрицерковную реформу: передать земли крупных монастырей епископским кафедрам и тем самым укрепить внутреннее единство церкви.
Развитие текстологии и специальных исторических дисциплин в 60–70-х годах благотворно отразилось на исследованиях источников по истории средневековой церкви. Особенно выделим разбор и публикацию текстов княжеских уставов и кормчих книг (две монографии и публикация Я.Н. Щапова), издания и текстологические исследования ряда житийных памятников (Л.А. Дмитриев, Р.П. Дмитриева, В.А. Кучкин и др.), аналитический обзор переводных церковных сочинений (две книги Д.М. Буланина, работы А.А. Турилова), палеографические наблюдения над рукописями, восходящими к архиву московской митрополичьей кафедры 20–30-х годов XVI века (Б.М. Клосс), анализ сочинений Иосифа Волоцкого (А.А. Зимин, Я.С. Лурье), Вассиана Патрикеева (Н.А. Казакова), Максима Грека (Н.В. Синицына, Б.Л. Фонкич, Д.М. Буланин), Нила Сорского (Г.М. Прохоров, Б.М. Клосс). Вышли в свет книги зарубежных ученых, посвященные средневековой церковной истории (А.В. Карташов, Ф. Лилиенфельц, И.Ф. Мейендорф, Л. Мюллер, А. Поппе, Г. Подскальский и др.).
Как и следовало ожидать, советская историография оказалась невосприимчивой ко всем новым работам по истории русской церкви, опубликованным за пределами СССР. Самый характерный пример — полное многолетнее умолчание о новой школе церковной истории, возникшей в среде украинской эмиграции. Малоизвестны советским ученым очерк церковной истории в «Курсе» М. Грушевского, книга О. Халецкого и работы А. Великого и М. Ваврика. Главная причина подобного «невнимания» — нежелание взглянуть на историю церкви через призму национально-церковных расколов и разделений, московско-центризм. Как и Голубинский, нынешние историки не могут допустить, чтобы рядом с историей московской («киевской и всея Руси») митрополии существовали истории литовской (также называвшей себя «киевской и всея Руси») или галицкой митрополии.
Преобразования советской историографии в эпоху перестройки в целом шли по программе ликвидации белых пятен. Историки поспешили признать, что в науке долгие годы существовали обширные области умолчания, и начали публиковать материалы и исторические обзоры на некогда запрещенные темы: биографии казненных Сталиным соратников Ленина, лживая внешняя политика, национальные конфликты и т. д. Подобным образом, несомненно, ведут себя и историки церкви. Они припоминают то, что может считаться белыми пятнами в этой области, и, разумеется, белыми пятнами оказываются те темы, которые изучались до революции и потом были забыты, т. е. (см. выше):
церковь как выразитель народной религиозности,
социальные функции церкви: духовничество и благотворительность,
церковь и земское самоуправление.
Так и происходит: возрождается интерес к пенитенциарным текстам, публикуются церковные поучения, издаются книги о земском самоуправлении на Севере и в Сибири. Однако сам механизм «возвращения забытых имен» — не самый лучший способ развития историографии. Физики в шутку сформулировали правило тринадцатого удара: если ваши часы вдруг бьют тринадцать раз подряд, не думайте, что двенадцать ударов были правильными, лишь тринадцатый был дан по ошибке; может быть, что-то не в порядке с главным механизмом. То же и с белыми пятнами: история описывает непрерывные процессы, и если внутри исторических описаний невредимо сохраняются белые пятна, т. е. зоны, где интересующие нас процессы не действуют, значит, мы имеем дело не с историей, а с суррогатом истории.
И кроме того, опоздавшее на 70 лет возвращение дореволюционной церковной истории, пускай даже без белых пятен, никак не будет соответствовать уровню развития секулярной истории. В XIX столетии уровень профессионализма историков церкви во многом определялся состоянием историографии гражданского общества. Теперь разрыв в развитии этих дисциплин грозит критическим взаимонепониманием: область церковной истории может оказаться за пределами исторической науки, останется лишь областью национально-романтических мечтаний.
Нельзя вдруг изменить эту ситуацию. Однако не возбраняется рассуждать в таких категориях, будто старая парадигма истории средневековой церкви уже недействительна и мы заново пытаемся определить наши задачи. Итак, у нас нет удовлетворительного метода церковно-исторического исследования. Можно ли надеяться, что последовательное применение чужой методики, например, постулатов Веберовской исторической социологии, восполнит этот пробел?
Источниковедческий аспект темы казался хорошо разработанным, однако в последние годы выяснилось, что публикации церковных материалов неудовлетворительны, и в научный оборот были введены далеко не все источники: так, до 1986 г. было опубликовано около 320 посланий церковных иерархов, 14 — начала XVI века, а 72 грамоты оставались неизданными. Неопубликованными остаются такие памятники канонического права, как так называемая Кормчая русской редакции, как оригинальные редакции Кормчей, принадлежащие Вассиану Патрикееву, Нифонту Кормилицыну, митрополиту Даниилу. Нет научного издания Кормчей сербской редакции. Плохо и неполно издан корпус житийных текстов. Лишь наполовину опубликованы Великие Четий Минеи митрополита Макария, и только теперь, усилиями московских ученых и Славистического института Фрайбургского университета, возобновляется это важнейшее издание. Неизданы многие оригинальные труды церковных писателей (Григорий Цамблак, митрополит Фотий, Спиридон-Савва, митрополит Даниил, митрополит Макарий). Нет академического издания «Книги на еретиков» Иосифа Волоцкого. Мало изучены и практически не опубликованы литургические памятники, например, служебник Киприана или евхологионы Киевской митрополии.
Наряду с задачами издания нормативных текстов, например, посланий иерархов, должны решаться задачи исследования греческих и южнославянских дипломатических прототипов восточнославянских грамот.
Диоцезия средневековой Руси строилась по образцу Константинопольского патриархата. Первая проблема — это проблема рецепции византийского опыта. Набор византийских текстов, прежде всего Кормчая, описывал обширную церковную организацию, насчитывающую несколько тысяч епископов. На Руси число епископов никогда не превышало полутора десятков. Отличались от византийских и структуры светской власти, например, до конца XV столетия ни один князь не мог претендовать на то место в церкви, которое занимал византийский император. Иные социальные условия не позволяли прямо применить на Руси византийские модели церковной организации, что вынудило русских князей и иерархов создать собственные нормативные предписания: княжеские уставы, уставные грамоты и церковные поучения. До сих пор исследователями не выяснен исторический смысл соотношения между переводным и оригинальным церковно-каноническим наследием: какую идеальную форму должна была принять средневековая церковь? каковы наиболее значимые и готовые к применению черты византийского наследия, сохраненные оригинальными русскими сочинениями?
Вопрос о земельной собственности в средневековой Руси обычно обсуждается как превращенная форма вопроса о политической власти («власть и собственность» — в заглавии книги В.Б. Кобрина). Между тем, в первые века церковной истории кафедры и монастыри почти не владели землей, но обладали немалой властью. Рост церковного и монастырского землевладения, вопреки мнению многих историков, вовсе не означал усиления политических позиций церкви, напротив, церковь увеличивает свой земельный фонд именно в эпоху постепенного ее подчинения власти московских князей.
Историки государственного аппарата считают важнейшим показателем развития степень централизации (ср. споры о времени образования единого Русского государства). А церковь почему-то всегда описывается как институция с изначально прочной центральной властью. Не вполне ясно, как поддерживалось единство митрополии в условиях политического разобщения. Как работал собор митрополии? Какова роль местных владычных кафедр? Мало прояснены причины противоречий, разделявших московскую и тверскую кафедры, московского митрополита и новгородского архиепископа, Новгород и Псков.
Никем не предпринята попытка воссоздать как целое деятельность средневековой церкви на уровне епархии: землевладение, администрация владычного дома, отношения между князем и епископом, родственные связи клана, из которого происходит епископ, с другими кланами землевладельцев, княжеских слуг.
Церковь принадлежит к тому типу социальной организации средневекового общества, в основе которого лежит не семья, но корпорация. Не обсужден характер этих корпоративных связей на уровне епископата, членов собора митрополии, крупных монастырей.
Ничтожно мало известно о мелких монастырях и пустынях, остается малоисследованной роль соборных и мелких церквей, особенно их участие в повседневной жизни города.
Сегодня не может быть удовлетворительно описано развитие основных доктрин средневековой церкви, например, миссионерские планы, отношение к неправославным народам, идеи сакральных центров христианства (Иерусалим, Рим, Константинополь, Киев, Москва), не изучено развитие киевской легенды. Нет новых работ по проблемам ортодоксии и ереси. Не выяснена история ключевых мифологем церковной литературы. Не описано и такое харизматическое явление как святость.
Нет работ по новейшей церковной историографии русской церкви, как не было и нет исследования дореволюционной церковной историографии.
В пространство средневековой истории исследователями проецируется представление о православии, сформировавшееся в последующие века. Между тем, оригинальные тексты XII-XV столетий и корпус переводов не содержат некоторых мотивов, которые считаются исконно принадлежащими русскому православию, значит, должен быть обсужден общий вопрос об исторической трансформации доктрин восточного христианства.
Многие вопросы, возникающие при обращении к историографии средневековой церкви, остаются пока без ответа. Однако в науку входит новое поколение исследователей. История церкви перестала быть запретной зоной для конкретно-исторического знания. Следовательно, есть основания для надежды.