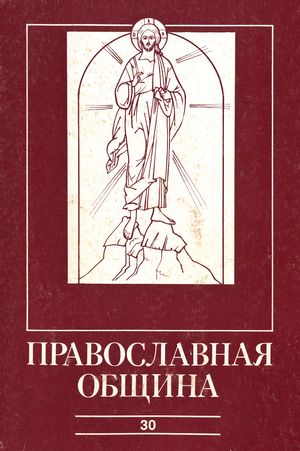Интервью со священником Георгием Кочетковым «Сторож! сколько ночи? — приближается утро, но еще ночь.».
«Сторож! сколько ночи? — приближается утро, но еще ночь.» (Ис 20: 11–12)
С. Смирнов. Первый вопрос, который я хотел задать, связан с Вашей, я бы сказал, задиристостью. Например, Вы часто употребляете термины, которые у кого-то заведомо вызовут негативные реакции. У меня даже такое впечатление, что иногда Вы специально провоцируете окружающих на такую реакцию. Возможно, в этом проявляется Ваше стремление «выявить подлинные реалии церковной жизни» (Вы об этом писали в одной из Ваших первых** статей). Но всегда ли это так необходимо? Ведь, по существу, это нарочитое искушение человека, а это — грех.
О. Георгий. Насчет искушения и соблазна — дело известное. С одной стороны, сказано: «кто соблазнит одного из малых сих…» и так далее. То есть, искушать нельзя никого. А с другой стороны, говорится, что «слово крестное для погибающих юродство есть, для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие». Если совершенно упразднить соблазн, то надо упразднить и Крест. Конечно, выявление реалий, подлинных реалий нашей жизни, — это вещь концептуальная. Это плод Духа, по моему глубокому убеждению. И без этой смелости выбора, без смелости, которая нужна, чтобы сказать правду такой, какая она есть, мы не преодолеем внутренних компромиссов и раздоров внутри человека. А это очень важно. Другое дело, что я стараюсь — действительно стараюсь — мягче высказываться. Иногда мне хочется сказать «круче», но я пытаюсь делать мягко, говорить мягко. Некоторые люди слышат это как очень «крутые» высказывания. Может, надо еще мягче, а может и не надо. Сейчас мне это сказать очень трудно. Наверное, все это соответствует каким-то свойствам моего характера. Намеки мне часто представляются невозможными только из-за того, что не хватает времени и сил. Я люблю красивые выражения, но редко приходится ими пользоваться. Во-первых, потому, что некоторые люди чаще всего их не понимают, а во-вторых, на это нужно дополнительное напряжение. Приходится выбирать, так как сил на все недостаточно.
С. Смирнов. Батюшка, я имел в виду несколько другое. Я имел в виду, что Вы нередко употребляете термины, которые заведомо вызовут негативную реакцию. Например, говорите: «синагогальное устройство Церкви», и это у многих вызывает дрожь. А сказали бы «синаксарное» — и напряжения бы не возникло, можно было бы говорить по существу.
О. Георгий. Конечно. Вот поэтому на оглашении мы не говорим о «синагогальных» богослужениях, хотя имеем полное право так выражаться, с точки зрения ученых-литургистов, историков и так далее. Мы говорим о «синаксарных» богослужениях, потому что, действительно, у людей существуют предрассудки, в том числе антисемитские. Но, тем не менее, даже на оглашении я иногда говорю, что «синаксарное» и «синагогальное» — это одно и то же, что оба слова с греческого переводятся так-то и так-то. Люди все-таки должны это знать. А вот сразу шокировать человека, наверное, не нужно. Хотя, знаете, я вспоминаю одно слово С.С. Аверинцева. Когда мы с ним обсуждали вопрос о переводе известной молитвенной формулы «Паки и паки миром Господу помолимся», он сказал: «Ну что же, «снова и снова в мире Господу помолимся» — это допустимо. Если иметь в виду необходимость встряхнуть присутствующего в церкви традиционного верующего».
С. Смирнов. То есть встряхивать Вы любите?
О. Георгий. А что делать? Спим, спим! Все спят!
С. Смирнов. Я помню, как несколько лет назад на нашем традиционном «Преображенском соборе» братства выступил человек, который сказал: «Отец Георгий! Я Вас очень люблю, но с православным священником нужно так же ласково обращаться, и так же нежно, как Вы с каждым из нас обращались на оглашении. Так же входить в немощи каждого человека, так же находить выход, так же делать шаг, полшага, два шага навстречу». Но относительно православных священников Вы явно считаете, что они сами должны разбираться. А если этого не происходит?
О. Георгий. В свое время о. Димитрий Смирнов прекрасно сказал: «Труднее всего обратить в православие православного батюшку». Работать с батюшкой и общаться с ним так же, как с оглашаемым, не получится. Это совсем другой, как говорится, контекст. Поэтому, думаю, что в первую очередь мы должны избежать какого-то лукавства и сознательного компромисса. Или хотя бы минимизировать этот компромисс. Нужно людей учить (и всем нам учиться), учить вещам, которые адекватно выражали бы Божью правду и истину. Мы отвыкли от этих вещей, и это слишком опасно. В результате мы пришли к тому, что духовные термины совершенно стерлись и приобрели совершенно другой смысл, другое значение, стали означать не то, что они означали изначально, в традиции.
С. Смирнов. Но Вы довольно часто вводите свои собственные термины с неустановившимся значением. Например, термин «полулитургический», явно вызывающий «аллергическую» реакцию. При этом иногда понимают его так, будто на наших агапах, к которым Вы применяете этот термин, происходит некое освящение хлеба — не такое, как на Евхаристии, а как бы наполовину. Ясно, что это полный бред, но сам термин все-таки остается непонятным.
О. Георгий. Не помню, чтобы за последние лет 15 я употреблял этот термин. Он был употреблен в «герасимовской» статье, которая в общем-то не для тех, кто начинает духовную жизнь и свои духовные познания. Эта статья для людей, уже что-то знающих, что-то усвоивших. Поэтому я рассчитывал на адекватное восприятие терминологии. Не я придумал этот термин, он встречается и у других. Точно ли так он звучит или немного иначе, но это понятие известное. И означает оно только то, что между храмом, в котором совершается литургия, и миром, где мы должны жить — и служить Богу и ближним, — существует мостик, вот эта агапа, которую можно назвать и «полусветским» действием, потому что она может происходить в доме, без всего того, что мы называем «религиозным» моментом нашей жизни. Но ее можно назвать и полуцерковной, и в этом смысле — полулитургической, поскольку на ней собираются члены церкви (хотя и не все), кто причащался от одной Чаши. Литургия собирает, скажем так, всех, а здесь собирается какая-то часть. Вообще, слово «литургия», или «литургический» сейчас все шире и шире употребляется. Потому что «литургия» — понятие более широкое, чем мы привыкли думать. Это слово означает «общее служение» или «общее дело», и применять его только к Евхаристии не очень корректно. Об этом нужно знать.
Сейчас я не употребляю прежней своей терминологии, хотя я от нее никогда не отказывался. Для меня это важно. Я считаю, что агапа имеет такое большое значение, она настолько значима, что ее можно назвать — имея в виду ее прямую связь с Евхаристией, с литургией, с общиной церковной — «полулитургическим действием». В этом, скорее, призыв к ответственности и к тому, чтобы обратить внимание на имеющийся разрыв между миром и храмом. Контекст статьи Герасимова подразумевал, в частности, проблему разрыва между жизнью в храме и вне храма для одного и того же человека.
С. Смирнов. Непонятно, к чему еще можно применить термин «полулитургический». Можно ли так назвать, например, водосвятный молебен?
О. Георгий. Ну, наверное, требы могут быть названы полулитургическими действиями. Все требы, потому что они, по самому их определению, собирают часть общины.
С. Смирнов. Требы, не связанные с таинствами?
О. Георгий. В этом вся суть! Таинства вообще не могут быть требами! И когда таинства становятся требами — это уже болезнь. Когда они становятся вместо литургических полулитургическими, — а мы прекрасно знаем, как это бывает, — то это противоречие в терминах, потому что любое таинство должно быть соборным. Оно должно быть литургическим целиком, всегда, хотя в современности бывает по-другому. Характерно, что агапы никогда не противопоставлялись литургии. Это было или завершение литургии, или даже — в самой глубокой древности — то, что непосредственно предшествовало Евхаристии. Непосредственно! То есть это была тоже литургия, и совершалась она в храме. Это сейчас мы знаем соборное постановление, принятое против злоупотреблений, призывающее проводить агапы вне храма. Но не надо забывать, что веками в Православной церкви агапа совершалась в храме — непосредственно в храме, как и сама Евхаристия. И была в этом смысле литургическим действием, потому что в ней участвовала вся община, причастившаяся или готовящаяся к причастию.
С. Смирнов. Батюшка, еще один упрек, который постоянно к Вам адресуют, касается закрытости агап. У меня самого с этим связан вопрос. Иногда можно услышать: «Причащаться я с ним готов, а вот на агапе пусть его не будет!» Как Вы такую ситуацию прокомментируете? Она, наверное, типична.
О. Георгий. Слава Тебе, Господи, она не типична, это редкая вещь. Она в какой-то степени была типичной лишь в одной общине — в силу особенностей некоторых ее членов. Но вообще в нашем братстве это очень редкая вещь. Хотя опасность такая существует. Когда это есть, это говорит о том, что соучастие в Евхаристии страшно формализовалось. Что люди понимают, что для участия в агапе нужна ответственность, нужно уметь открыто посмотреть в глаза другому — и они на это не решаются. А вот на Евхаристии, в храме, оказывается, можно без этого обойтись! Это явное противоречие, так никак не может быть. Это совершенно неестественная вещь. Если уж ты на агапе не можешь быть с человеком, то как ты можешь с ним быть на Евхаристии? А если ты можешь с ним быть на Евхаристии, то тем более не должно быть проблем на агапе. Иначе говоря, это свидетельствует о том, что на практике наше участие в богослужении, к сожалению, нередко слишком формализовано.
Второе, я всегда говорил, и это хорошо известно из истории Церкви, что есть разные типы агап. Есть агапы, допустим, поминальные, евхаристические и благотворительные. Благотворительная агапа в принципе не может быть закрытой, иначе — какая там благотворительность! Она предполагает открытость для любого — нищего, несчастного, верующего, неверующего, вообще для любого. То же самое надо сказать про поминальные агапы. Хотя здесь какой-то промежуточный случай. Мне приходилось участвовать в поминальных агапах. Слава Богу, не часто, но приходилось. А там иногда присутствовали родственники — вообще неверующие! И что же? Фактически они были так или иначе вовлечены в агапу. Другое дело, что пришлось это делать очень деликатно. Потому что нельзя же заставлять человека молиться, если он неверующий. Но, допустим, отпить от чаши — которая является просто братиной, традиционной для России братиной — неверующий может? Может. Как-то вспомнить человека? — Может. Участвовать в трапезе? — Может. Многое, что может…
Другое дело — евхаристическая агапа. Она стала закрытой потому, что у нас слишком «открыта» Евхаристия. Потому что на «изыдите, оглашенные, изыдите!», как правило, никто не уходит. А нарушение в одном, т. е. нарушение «дисциплины аркана» в храме, — привело к реакции: по типу — если этого нет в храме, значит, это должно быть где-то в другом месте. Так родилась закрытость наших агап. Нужно было вычленить из всего состава присутствующих на литургии тех, кто является реальными членами Церкви. Без суда — хорошими или плохими, но — реальными. Не будем забывать: это же все — плод того времени и опыта, когда в каждом храме стояли представители известных организаций. В каждом храме! И что же, мы должны были с ними вступать в духовное общение? Это нонсенс, невозможная вещь! Можно вступать в какое-то общение, но надо знать границы. А перестав эти границы видеть, мы нарушили бы какие-то важнейшие внутренние соотношения церковной жизни. Отсюда и закрытость. Поэтому община — как духовная семья — всегда имеет членство. Иначе «нет границ, нет и ответственности». И приглашение на агапу гостей — на семейный обед, на общую трапезу всей духовной семьи, — предполагает их приглашение или всей семьей, или ее главой. Как в светской культуре — ни больше, ни меньше.
С. Смирнов. Но это обсуждение приглашаемых…
О. Георгий. Ну, это вопрос практический. Должна пригласить семья. А как она кого-то пригласит? Она должна об этом намерении знать, нужно ей об этом объявить, и нужно, чтобы семья захотела пригласить. Другое дело, когда приглашает или глава семьи, или часть семьи, а вся семья не знает об этом. И таких случаев очень много, и они достаточно регулярны. Но здесь нельзя легко переступать через немощи своих братьев-общинников. Да, когда кто-то в духовной семье отвергает возможность присутствия другого члена Церкви на агапе только потому, что ему лично тот не очень нравится, это, скорее, говорит против самого члена семьи. Но ведь его самого тоже нужно убедить в этом! Иногда лучше пожертвовать тем или иным приглашением гостя, чем переступить через того, кого еще надо переубедить. Это значительно труднее, чем просто действовать по разнарядке.
С. Смирнов. Хорошо. У меня еще вопрос. О. Аркадий Шатов обильно цитирует* те места из вашей статьи «Вхождение в Церковь…», которые посвящены стяжанию харизматических даров. И, надо сказать, этих мест в статье предостаточно. Но очевидно, что для православного уха и это звучит сигналом «к бою», и Вы не могли этого не понимать. Поэтому первый вопрос: что Вы имели в виду, когда говорили об этом? На какую реакцию рассчитывали и чего добивались? А второй вопрос связан с тем, что я, глядя вокруг себя — на нас, не вижу этого горения, не вижу этого рвения и ревности о больших дарах Божиих, о жизни совершеннейшей и т. д. Слава Богу, как-то еле-еле тащимся…
О. Георгий. Во-первых, люди есть разные. Как и разные приходы, епархии и т. д. Во-вторых, когда церковная институция находится в тяжелом состоянии — а в конце коммунистической эпохи это было бы безусловно так, и вряд ли кто-то будет с этим спорить, — надеяться только на нее было бы безумием. Нужны были духовные критерии качества духовной жизни. А коли заговорили о духовных критериях — надо говорить о харизме. Харизма это дар. По дару Божьему надо жить! Мы должны также говорить и о пророчестве, и о гнозисе, познании. В конце концов, и о том, и о другом говорит нам постоянно Писание. Писание совершенно не заботится об утверждении тех или иных церковных институций, оно заботится о дарах духовных. «Ревнуйте о дарах духовных, и я покажу вам путь еще совершеннейший», — говорит апостол Павел, хотя сам утверждал много институциональных элементов в практике христианской жизни. Харизма — это то, чего боятся, но без чего нет христианства. Да, легко злоупотребить и пророчеством, и гнозисом — это всем известно. Но из-за того, что чем-то легко злоупотребить, нельзя отказываться от самих этих вещей. В конце концов, легко злоупотребить верой или любовью, но нельзя же отказаться от веры и от любви! Поэтому все намеки на то, что всякая харизматичность уже по определению есть псевдохаризматичность, всякий гнозис — лжегнозис, это, конечно, клевета.
С. Смирнов. А по поводу второй части моего вопроса? Читая Ваш текст, можно подумать, будто мы — большие харизматики.
О. Георгий. Надо помнить, что эта статья была написана в 1978 г., когда мой церковный круг общения был самый маленький. Было 20 или 30 человек, с массой личных и неличных проблем. В частности, тут был и круг, в который входил каким-то боком сам о. Аркадий. И в общем-то эти люди тогда только начинали духовную жизнь, хотя мне уже пришлось с десяток лет ее очень активно вести. Поэтому я хотел поделиться с ними своим опытом. У меня не было никаких претензий. Был ориентир, в том числе — и для себя. И для любого другого, если он захочет. Конечно, это был ориентир на врата узкие, путь тернистый, тесный, но это было то, что представлялось единственным возможным основанием духовного возрождения в реальности тех условий нашей жизни.
С. Смирнов. Еще один большой вопрос. Нас критикуют за то, что мы хотим заменить приходы, на которых стоит церковь вот уже полторы тысячи лет, на какие-то неведомые общины. Мне кажется, что здесь явное недоразумение, поскольку общины, как они сейчас складываются, вовсе не противопоставляются приходу. Это, скорее, форма организации приходской жизни, делающая акцент на христианской жизни еще и за пределами храма. Но надо сказать, что сам способ подачи материала в Вашей («герасимовской») статье дает основание для известного рода подозрений. Вы даете там текст в двух параллельных колонках: вот это — в приходе, а вот это — на ваш взгляд лучшее — в общине.
О. Георгий. Знаете, когда такие обвинения предъявляются, остается только руками развести. Человек, если что-то критикует, должен исполнять какие-то нравственные обязательства, не правда ли? В частности, целиком познакомиться с тем, что автором говорится о том вопросе, о котором он собирается критически говорить или писать. Тема соотношения общины и прихода развивалась мною на протяжении многих лет. Причем о том, что она развивалась, тоже было написано и сказано мною достаточно четко. Можно взять хотя бы материалы наших Преображенских соборов, в частности, книжки «Приход, община, братство, церковь» и «Община в Православии», и их почитать. Там черным по белому написано, что вначале я считал, что для церкви в будущем нет другого пути, кроме общины. А может, при коммунистической власти и не было другого пути? Теперь я не знаю, а тогда я был вполне убежден, что другого пути нет. Коли приходы были коррумпированы и, строя свою жизнь на тяжелом компромиссе, обязаны были существовать так и никак иначе, то в Церкви они должны уступить свое место чему-то другому, например, общинам. Для того хотя бы, чтобы туда просто не дотянулась рука врагов Церкви. Все было очень просто.
А вот когда я писал как продолжение начатой темы следующую статью*, так называемую «богдановскую», — о «священстве православных и баптистов», то там был сделан уже немного другой, новый акцент. Там я от своей первоначальной позиции отчасти отказался, хотя не отказался от самой «общинной» идеи. Мне показалось, что уже есть возможность по-другому осуществлять христианское церковное служение в чистоте и полноте. Что внутри церкви могут быть, с одной стороны, общины, где люди друг друга знают, друг другу доверяют и поэтому могут друг другу помогать в духовном росте. И с другой, есть и должны быть приходы, которые существуют как некие форпосты, защищающие церковный град. Как когда-то вокруг Москвы на каждом перекрестке бульварного кольца стоял монастырь. Конечно, нельзя всю жизнь превратить в монастырь. Но есть некий внутренний град, а есть внешнее его кольцо. Вот такое защитное кольцо и должны составлять приходы, открытые всем «внешним». Пусть даже иногда вынужденно идущие на какие-то компромиссы в своем служении. Через них, как через ворота, все люди могли бы входить в Церковь и выходить из нее. Но ведь в Церкви должны быть не одни ворота и ограждения. Пройдя этими воротами, можно идти дальше, усовершенствоваться в общине, а не начинать каждый раз с нуля, когда приходишь в церковь на исповедь, или на литургию, или еще для чего-то.
Но и от этой идеи я пошел дальше, к тому, что сами приходы могут стать общинными, а общины могут поддерживать приходы, стать приходскими. Иначе, пока в них самих не совершаются все таинства, пока в них нет своих предстоятелей на Евхаристии, им грозит самозамкнутость, превращение в секты. Потому-то в нашем братстве я много лет настаивал на том, что общины и группы должны четко определиться в своей поддержке какого-нибудь прихода. И когда наше братство открыло несколько приходов, я просил всех высказаться, кто какой приход, кто какой храм поддерживает, чтобы через храм — и Евхаристию в храме — была связь с епископом и тем самым — с полнотой церкви.
Сейчас, может быть, я могу сделать четвертый шаг. Он может казаться шагом назад, хотя, я думаю, что это шаг вперед. Сейчас я считаю, что все три подхода правильные. Нет оснований отказываться ни от первого, ни от второго, ни от третьего. Да, если где-то есть «неизбежное зло» и неизбежный компромисс (неизбежный, подчеркиваю, не вообще, как эмпирически данный, а неизбежный в смысле заложенный внутрь системы), там церковь должна пересмотреть свой опыт и себя трансформировать, как это делалось прежде всегда. И это более всего связано с возрастанием общинности в церкви. Тем более, что до сих пор отсутствие этой общинности отгоняет людей от церкви, делает для многих невозможным вступление в нее. Далее, я сейчас считаю, что приходы в принципе должны быть миссионерскими центрами, открытыми для всех и при этом по возможности — общинными. А общины должны стремиться к тому, чтобы слиться с приходом, с тем, чтобы обрести полноту церковности.
Это уже происходит во многих зарубежных православных приходах. Часто я привожу пример того прихода, который я знаю, — прихода о. Ива Дюбуа в Бате, в Великобритании. Это, мне кажется, уже не приход, это уже община, хотя с некоторыми приходскими элементами. А у нас есть, наоборот, приходы с общинными элементами. Это большая разница. У них на 30–40 человек есть священник, у которого есть свой дом, и в этом доме есть домовый храм. Есть также свой дьякон, своя монахиня, свои (хотите — называйте это агапами, хотите — не называйте) трапезы после причастия. Другими словами, есть совместная общинная жизнь, причем она не разрывает ткани единой церковной истории, естественным образом вырастая из традиционных приходов.
С. Смирнов. Когда Вы критикуете современную приходскую форму жизни, что Вы имеете в виду прежде всего? У меня такое впечатление, что Вы знаете, что в ней плохого, но не проговариваете этого.
О. Георгий. Это не принято проговаривать. Об этом не принято даже говорить, потому что люди слишком легко соблазняются недостатками церковной жизни и забывают о том, ради чего говорится о недостатках. Они начинают осуждать, а иногда это настолько их подавляет, что они впадают просто в черное уныние. Поэтому об этом не нужно много говорить. Но я действительно считаю, что приходские и монастырские алтари нередко становятся прибежищем отнюдь не только добрых духов.
Когда алтарь оказался в храме отдельным помещением, когда высокий иконостас совершенно закрыл его, там стали твориться вещи, подчас непотребные. Я имею в виду тамошние разговоры и действия, и отношение к происходящему в храме среди народа, а также четкое разделение самой церкви на тех, кто в алтаре, и тех, кто не в алтаре, незаинтересованность тех, кто в алтаре, в тех, кто вне алтаря, в частности, даже в их присутствии, не говоря уже о их соучастии в Евхаристии, их причащении и т. д. Заинтересованы бывают больше в средствах, в доходах.
Выросшая вместе с приходской системой церковная иерархия всегда связана с государственной силой, а та никогда не бывает чисто христианской. Отсюда же — необходимость иметь профессионального клирика, и клир в наше время — это почти всегда живущие на «зарплату» и оторванные от общинных корней профессионалы (хорошие или плохие — это вопрос другой). Такая тесная связь с государственной властью и системой — это порок. Сейчас, допустим, простой священник может не иметь таких прямых связей, но ведь епископ все равно их иметь обязан. Конечно, принцип представительства церкви «пред внешними» и желательность доброго свидетельства «от внешних» бесспорны. Но на практике мы имеем дело совсем с другим. Конечно, в коммунистическое время это было особенно страшно, поскольку тогда все контролировалось уполномоченными, и людьми из КГБ, и всякими комиссиями по исполнению законодательства о культах при райисполкомах.
В приходах очень много профанации таинств и вообще произвола в приходской жизни. Причем с этим невозможно бороться, поскольку фактически любой современный настоятель имеет епископские (в древнем смысле этого слова) полномочия. Это могло бы быть и неплохо, но в наше время это превратилось в возможность злоупотреблений. Я не хочу сказать, что все злоупотребляют. Очень много людей желают честно служить. Желают! Но что из этого получается, мы хорошо видим. Многие отходят от служения, даже снимают сан. Или выдают только какие-то готовые формулы, и наклеивают на всех по каждому поводу ярлыки, и потом по ним бьют. В общем, так или иначе формализуют и охлаждают свою духовную жизнь. И тогда вместо обогащения современности церковной традицией мы встречаемся с вещами, прямо противоположными. Ну вот, я коротко высказался. Отчасти об этом есть еще в моих статьях, особенно тех, которые рассчитаны на неширокого читателя.
С. Смирнов. Непонятно только, почему нельзя решить эти проблемы в приходе? Почему честный батюшка, хороший, служащий, не может их решить? Разве нет таких?
О. Георгий. Отвечу и на этот вопрос. Это наш старый спор, например, с о. Дмитрием Дудко. Спор, тянущийся еще с середины 70-х годов, так что ему уже 20 лет — этому спору. О. Дмитрий, в отличие от меня, считал, что община — это просто хорошо организованный приход. К слову говоря, это разногласие было одной из главных причин, по которой я стал писать свою «герасимовскую» статью во второй половине 70-х годов. Именно поэтому по совету о. Виталия Борового я сделал тогда в ней, в частности, две колонки, и при такой подаче материала оказалось, что по большинству основоположных признаков приходская церковная система прямо противоположна общинной. И то, и другое явление в церкви может быть использовано во благо, но это вещи противоположные. Не хочу сказать (и там я это подчеркивал), что одно — всегда зло, а другое — всегда добро. Но в наше время сплошь и рядом встречаются злоупотребления, и приходская система становится слишком уязвимой.
Да и сам культ стал слишком тяжел. Вот то, о чем я тоже часто говорю, — о кондовости. «Кондовое православие» — это ужасно. Я видел его во многих случаях, видел его действие. Как тяжелым сапогом наступают… Невозможно сохранять такой дорогой культ, невозможно содержать такие дорогие здания, невозможно содержать такие дорогие облачения и т. д. И по десять иподиаконов-мальчиков у архиерея, и не знаю, что еще. К чему это приводит — всем известно. Всем известно! И это, бесспорно, поругание святыни. Невозможно все это делать без компромисса и без помощи извне, и даже без связи с нечестными элементами. В наше время на приходах иногда завязываются связи чуть ли не с мафией. То есть не «чуть ли», а совершенно точно с ней. Отсюда все эти взаимные недоверие и подозрение, люди друг друга не знают, личностных отношений нет, вера не дает свой плод.
С. Смирнов. Батюшка, что же получается? Кроме нашего прихода, вообще Церкви нет на земле?
О. Георгий. Почему?
С. Смирнов. Из Вашей речи просто нельзя другого вывода сделать.
О. Георгий. Нет, проблемы есть везде. Они есть и у нас. У нас все-таки приход, я считаю.
С. Смирнов. Проблемы — это понятно. Но что на приходах они как-то решаются, из Вашей речи никак нельзя заключить.
О. Георгий. Люди не решили, но пытаются решать их, хотя часто на путях возвращения к старому и прямо устаревшему. Я считаю, что так они их не решат. То, что пытаются решать, — слава Богу. Значит, чувствуют, что что-то надо делать. Но, на мой взгляд, церковные проблемы должны решаться в том же движении вперед и в том духовном соревновании, о котором пишет апостол Павел.
Вот почему для меня было так печально все, что происходило на конференции «Единство Церкви». У нас с устроителями всегда были разные позиции по некоторым вопросам. Но хватало же в прежние годы мудрости друг друга при этом не осуждать и, например, говорить: «Хорошо. Вот, вы считаете, что церковные реформы должны идти медленно, а мы считаем, что они должны идти быстро, потому что нам не дано этого времени столько, сколько мы бы хотели его иметь. Историей, Богом не дано». Были разные позиции, но предполагалось, что каждый бежит в меру своих сил «для получения венца нетленного». Кто-то получит первую награду, а кто-то ее не получит. Мне кажется, что Свято-Тихоновский институт — другое крыло «шпиллеровского» круга — не выдержало. Не выдержало этого духовного, честного соревнования, несмотря на то, что сил у них было больше, несравнимо больше чем у нас. Они не выдержали, они стали применять методы, недопустимые в принципе. Вот и все.
А с другими приходами проблема часто в том, что там проблемы вообще не решаются, а люди этого не видят. Я не хочу сказать, что мы их решили окончательно, бесповоротно, сразу и все. Мы существуем в том же контексте, из того же «болота» вылезли, что и все остальные. Но у нас они как-то решаются. Что-то удачно, что-то менее удачно, что-то развивается, что-то меняется. У нас есть возможность этого внутреннего маневра, есть возможность делать выводы из опыта и руководствоваться духом и духовным опытом. В других же случаях такой возможности практически нет, и люди от этого страдают. Страдают священники, страдают верующие. Страдают, потому что не понимают, почему они что-то все делают, делают, делают, а у них мало что получается.
С. Смирнов. Как это «мало что получается»? Храмы восстанавливаются, верующих много, общение между ними углубляется.
О. Георгий. К чему здесь ирония? Недавно кто-то из священников служил у нас, так он сказал: «Я в воскресенье утром прошелся в центре Москвы по разным храмам. Храмы пустые, полный увидел только здесь».
С. Смирнов. Но есть известные священники, вокруг которых собирается множество людей.
О. Георгий. Ну, конечно. И слава Богу! Только быть популярным, собрать много народу — это, конечно, нужно постараться, и это можно сделать, но проблемы-то от этого все равно еще не решаются. Если не будет миссии, катехизации, образования, если не будет общинности, если не будет соучастия народа — уйдут, и эти уйдут. Даже при небольшом количестве храмы будут стоять пустые, как стоят в Болгарии, как стоят во многих других местах. Пустые православные храмы! Никто в них не ходит, делать там людям нечего. Зайти можно, можно поставить свечку, можно креститься, венчаться, отпеться. Это утилитарная задача, всем понятная, ведь всем надо немного скрасить, так сказать, свое существование. Церковь это делает, а сама превращается все больше и больше в «комбинат бытового обслуживания»…
С. Смирнов. Мне кажется, Ваши слова о том, что есть опасность превращения церкви в большую конфессиональную секту, тоже воспринимаются весьма болезненно. О. Аркадий в конце своего доклада цитировал Вас и говорил, что Вы угрожаете церкви тем, что она превратится в конфессиональную секту. И что поэтому церковь должна дать ответ.
О. Георгий. Что ж, церковь должна дать ответ. Только в первую очередь — Богу и себе. Но действительно, опасность такая есть. Только я не угрожаю, я, как говорится, констатирую трагический факт.
(Окончание следует.)