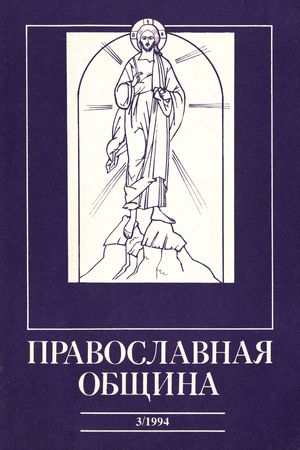Молитва и жизнь
(Выступление на Меневских чтениях 11 сентября
Мне очень приятно сегодня выступать и говорить на тему «Молитва и жизнь» именно здесь.
Можно хорошо знать Священное писание, можно достаточно успешно совершенствовать аскетическую практику, быть хорошим христианским педагогом, делать много других хороших вещей, быть катехизатором или ученым, помогать бедным. Но, наверное, здесь легче достигнуть совершенства и какого-то удовлетворения, чем в тех случаях, когда мы в храме и лично накапливаем молитвенный опыт.
О. Александр очень интересовался, как это всем известно, «законом молитвы» (lex orandi) Церкви. Он не был, может быть, специалистом по литургике, это не было его, так сказать, основной деятельностью, но его внутренний интерес к этой теме был очень велик, и у меня уже была возможность засвидетельствовать это на одной из прежних конференций, посвященных памяти о. Александра. Этот его интерес я хорошо запомнил и, надеюсь, буду помнить всю жизнь.
На меня всегда производили наибольшее впечатление, может быть, не столько те или иные его разработки и рекомендации на Великий пост или книги типа «Небо на земле», «Таинство, слово и образ» и т. д., сколько вот это его внутреннее тяготение к разрешению противоречий между молитвой, такой, какой она реально существует для нас всех и какой она реально была для него, и жизнью, ибо, бесспорно, есть разрыв между одним и другим. Мы не очень удивляемся, когда этот разрыв существует в умах людей непосвященных, людей нецерковных или почти неверующих. Тут налицо страшная мифология. Эти люди часто свято уверены в том, что в церкви собираются только бездельники, что если человек хочет что-то в жизни успеть, то ему нечего там делать, что это потеря времени на некие ритуалы, которые, может быть, и хороши для людей простых, но для человека современного, цивилизованного, культурного, деятельного все это просто не обязательно, даже не нужно. Может, если и нужно, то раз-два в жизни или, для некоторых, раз-два в год — не больше. Когда же мы встречаемся с разрывом между опытом и практикой молитвы и их жизнью у церковных христиан, это куда более серьезно.
Проблема эта действительно существует. Не буду сейчас говорить об опыте других церквей. Эта проблема существует, на мой взгляд, везде, хотя везде она существует несколько по-разному. Но в Русской православной церкви она стоит очень отчетливо. Тут и проблемы, глубоко уходящие в историю, и проблемы, вызванные течением самой этой истории в XX веке. Одно наслаивается на другое и делает проблему единения молитвы и жизни, объединения молитвы и жизни очень актуальной. Иногда она обостряется очень добрыми, самыми что ни на есть благочестивыми, действительно благочестивыми внутрицерковными намерениями. Известно же, что Православная церковь часто находилась в очень стесненных, очень как бы невыгодных исторических обстоятельствах, и, кажется, единственное, что она могла сохранять из поколения в поколение, передавая от одной церкви к другой, — это как раз свой «закон молитвы», свои молитвенные правила, свои традиции, литургию и храм.
В нашей Православной церкви, как известно, народ учился почти всегда в храме. В Византии была несколько особая история, и совсем не обязательно сейчас углубляться в старые пласты истории, в древность, чтобы увидеть, что после Византии в Православной церкви, конечно, была явная нехватка ученых и учебных центров. Поэтому-то народ и учился на богослужении. Ни для кого не секрет, что на Руси некоторые знали богослужение наизусть, с начала до конца, со всеми стихирами, со всеми деталями. Были даже неграмотные священники, которые совершали службу наизусть. Для нас сейчас это почти непостижимо, но это исторический факт, и это удивительно нам напоминает о том, что в древней церкви также стремились знать наизусть Священное писание. Тогда люди знали наизусть целые книги Священного писания, что для нас тоже почти непостижимо. Мы, может быть, знаем очень много цитат, тех или иных мест, которые воссоздают контекст того или иного текста Священного писания, но чтобы сейчас люди знали наизусть целые книги Священного писания — среди православных я, пожалуй, никогда такого не встречал. Неправославных таких людей встречал — иудеохристиан и других, но православных — честно скажу, нет.
Так вот, в Православной церкви вследствие специфики ее исторического пути всегда проявлялось особое внимание к богослужению. Ее богослужение часто было единственным основанием продолжения православной традиции. Не все могли разбираться в тонкостях решений Соборов, не все могли разбираться в тонкостях Писания, но храм всегда был доступен почти всем. Но именно такое внимание и благоговейное отношение к сохранению литургической церковной традиции привели и к отрицательным результатам. К каждому слову и обряду в какой-то части церкви стали относиться столь благоговейно, что это отношение уже ничем не отличалось, например, от отношения к Священному писанию или догматам. Поэтому, конечно, не решались что-то менять в богослужении и долго воспроизводили традицию во всей ее противоречивой и избыточной сложности. А таковая была, особенно до эпохи книгопечатания. Многообразие церковных уставов было очень велико. Это было наследием прежних церковных эпох. Потом это многообразие, особенно в самых существенных частях, все более и более сужалось. Со времени же начала книгопечатания, понятно, стали просто механически воспроизводить одни и те же чины. И тогда-то наступил упадок литургической жизни церкви — в результате такого блага цивилизации, как книгопечатание. Конечно, не только в результате книгопечатания, но и как следствие других благ цивилизации.
Итак, традиция стала себя повторять механически. В церкви перестали задумываться над глубинным и реальным смыслом чинов богослужения. Очень многие части богослужения были просто забыты в их изначальном смысле. На этой почве возникла и развилась своя мифология. Сначала это было очень благочестиво, это было просто символическое толкование богослужения. Со времен св. Симеона Солунского эта традиция толкования оставалась в церкви господствующей. А потом наряду с таким символическим толкованием богослужения и на его основании для постижения смысла богослужения применялись какие-то еще более мифологизированные методы.
В результате этого реальный «закон молитвы», который церковь так ценила, в котором церковь на протяжении многих и многих веков видела выражение своей внутренней жизни, доходящей до самых предельных ее глубин, этот «закон молитвы» вдруг от жизни отстал. Тот закон, который должен был вести эту жизнь, который должен был быть впереди, учить, вдруг перестал в чем-то работать. Ну как перестал работать? Не надо, конечно, абсолютизировать это выражение. Нельзя сказать, что богослужение перестало быть богослужением, молитва перестала быть молитвой. Конечно, нет. Люди и сейчас реально в церкви молятся. Но произошел трагический разрыв между молитвой, храмом и остальной жизнью, а в самих наших храмах — между духом и смыслом. Дух есть, в наших храмах молятся, может быть, как нигде. Но смысла в нашем храме, наверно, сегодня меньше, чем где бы то ни было. И поэтому, когда человек хочет там что-то понять и укрепиться в смысле, он почти неизбежно начинает терять дух, а когда хочет молиться духом, то оказывается, что реальный и трезвый смысл от него просто отходит. Это действительно трагедия. С этим мы сталкиваемся постоянно, начиная с христиан, которые делают первые шаги в церкви и которых нужно учить чему-то во время катехизации, и кончая значительно более духовно продвинутыми людьми. Поэтому-то современное реальное состояние православной веры и православной жизни, я хотел бы это подчеркнуть, не выражается вполне нашим «законом молитвы», т. е. нашим уставным и реальным молитвенным правилом.
О. Александр пытался это в разных случаях показать. Иногда конкретно по тому или иному живому поводу, например, в связи с отношением к иудеям и вообще евреям. Думаю, нам всем известны церковные богослужебные тексты, которые не очень даже удобно сейчас читать в церкви. Умные чтецы и священнослужители их просто пропускают. Это обычно бывает на синаксарных богослужениях, и от такого пропуска ничего, в принципе, не меняется и не теряется, а, надо думать, даже наоборот. Но ведь не все же чтецы и священнослужители умные, что само по себе нормально; некоторые из них читают все подряд, и поэтому происходят казусы, казусы в отношениях, в частности, к евреям, в тех отношениях, которые церковь закладывает сейчас в своем учении, во всяком случае, в своих лучших учениях.
Да и то, что читаем и видим в «действующих» богослужебных книгах мы, и то, что видели люди в них прежде, — это в той или иной степени тоже вещи разные. Это в первую очередь касается образности молитвы, богослужебной поэтики. Мы не считываем поэзию там, где она явно есть или была для прежних поколений и творцов тех канонов, стихир и т. д., которые мы употребляем. Я уже не говорю про Псалтирь (это особая тема) или пророков.
Итак, если всерьез отнестись к богослужению в его полноте, не выбирая то, что нам нравится, а имея в виду все то, что считается общепринятым, не все у нас хорошо. Если что хорошо, так оно хорошо, там проблем нет, но мы слишком часто сталкиваемся и с проблемами.
Это касается не только закона храмовой, но и закона личной молитвы. Нам бывает очень непросто соотнести традицию — живую на сегодняшний день традицию — личной и общецерковной молитвы в храме. Здесь тоже есть противоречия, и о них почти никто не говорит. Это очень жаль. Когда человек их чувствует, он скорее начинает пользоваться опытом других церквей или даже других религий. Вспомним, например, об опыте личной, но когда-то одновременно и храмовой медитативной молитвы и молчаливой молитвы без слов. В нередкой в наше время обращенности членов нашей церкви к опыту других церквей и других религий есть глубокий вызов нашей традиции. Мы во многих случаях не можем считать, что просто какое-то развращенное сердце, не удержавшись в своей традиции, уходит в другую. Это неверно. И здесь есть некая недостаточность в той форме «закона молитвы», которую мы сейчас принимаем как действующий закон действующей молитвы нашей церкви.
Если мы захотим заглянуть, как говорится, в анналы церковной истории и из «архивов» церкви взять некие древние молитвенные тексты, то мы увидим россыпи драгоценностей — будь-то литургическое предание или что-либо еще. Вспомните, например, дореволюционное пятитомное издание «Сборник древних литургий». Это действительно россыпи драгоценностей, но все они в «архиве», как бы в памяти церкви, и мы ими в церкви не пользуемся. Это достояние ученых, очень узкого круга специалистов или уж очень интересующихся людей, а не достояние церкви. И это касается не только литургии. Это касается и многих других частей церковного наследия. И вот мы перед лицом кризиса, поэтому необходимо что-то делать.
Скажу и еще об одной вещи, на мой взгляд, очень важной. Мы все время говорим: человека нужно вводить в церковь, и человек должен воцерковляться в храме. И вот, если он в храм не ходит, то он, мягко говоря, малоцерковен. За этим стоит определенный смысл. Но есть и некое «но». Не я первый задаюсь вопросом, наверное, и вы все задавались им, как и многие другие православные люди, как и вообще многие христиане: что видит человек, приходя в храм? Что увидели бы в наших храмах, например, апостолы? Или люди первых христианских поколений или первых веков христианства, войди они сейчас в наши храмы? Что они там увидели бы? И тут даже не так важно, увидели бы они в храме слишком много дорогих вещей и как бы они к этому отнеслись. Важно другое — узнали бы они свое христианство в наших формах богопочитания?
О. Сергий Желудков тоже очень остро ставил эти вопросы, но, может быть, он специально не шел в глубину, понимая, что у нас просто нереально, невозможно актуально ставить задачи реформы богослужения. Вспомним и Поместный Собор 1917–1918 гг. Он тоже в этом не шел в глубину. Это был прекрасный Собор. Дай Бог нам вспомнить все его актуальные решения и быть их наследниками в полном объеме. Но в отношении богослужения он дал лишь очень упрощенные схемы и рекомендации. Это легко проверить каждому. Даже этот Собор на самом деле ничего не расставил на свои места, а лишь немножко подправил положение. Отцы этого Собора задавались, по существу, только одним вопросом: вот, есть наш устав, но он ведь монастырский. Давайте-ка сделаем из него же приходской, немного упростив при этом язык молитвы и истолковав службы.
Лучшие представители церкви на этом Соборе понимали, что когда церковь ставит перед собой задачу выбора, она не делает это механически. То есть они верили, что когда нужно будет выбирать из большего меньшее, думая при этом о каждом слове, то, конечно, из всего наследия будет выбрано лучшее и наиболее подходящее для современной жизни церкви. Это были надежды, и, как известно, им не очень удалось сбыться. Но надежды такие все-таки были! Реально же на сегодняшний день мы не имеем ничего серьезного, что могло бы сдвинуть с мертвой точки эту проблему. К тому же у нас есть страшный испуг от обновленчества и даже еще от раскола XVII века. И это все вместе дает просто гнетущую картину. Верующие люди уже не верят в то, что вообще что-то можно сдвинуть на этом поприще в нашей церкви.
Для нас же, повторяю, принципиален вопрос о нормах церковной жизни, которые мы можем проследить на протяжении всех веков и которые являются кафолическими в Церкви, являются ее общепринятыми основами. Полноценный «закон молитвы» Церкви должен вести и воспитывать церковь, выводить ее на путь так же, как это делает Священное писание. Не случайно Священное писание — один из самых основных источников для всего литургического творчества церкви. Об этом о. Александр Шмеман замечательно писал, и я не буду ничего повторять.
Конечно, если мы сейчас вспомним, допустим, о. Николая Афанасьева, или того же о. Александра Шмемана, или о. Иоанна Мейендорфа и т. д., то всем станет понятно, что здесь что-то уже сделано. Если мы посмотрим на современную практику жизни Православной церкви в неправославном окружении — во Франции, в Америке, в Финляндии, на Ближнем Востоке, хотя не надо переоценивать и того, что происходит во Франции, в Америке и Финляндии, мы тоже увидим, что в мире кое-что уже изменилось. Сейчас, допустим, если русский православный человек, пусть со знанием языка, впервые войдет, в приходы крипты собора на рю Дарю или рю Сен Виктор в Париже, или в его предместьях в приход о. Михаила Евдокимова или в Сен Жан, в любой франкофонный приход, подчеркиваю — особенно со знанием языка, то он многое там просто не узнает. Я уже давно слышал жалобы наших священников: «Ох, эти греки! Ох, эти эмигранты! Они так испроказились, что ничего понять в их богослужении мы не можем. Тут у нас все хорошо: все идет по одному стандарту, все накатано. Можно вообще не думать о богослужении, когда совершаешь его. Все замечательно. А там даже если думаешь о богослужении, все равно ничего не понимаешь». Это действительно проблема. Для нас всех это означает серьезнейший вызов, внутренний вызов, который требует нашего внутреннего отношения к «закону молитвы» в соотношении с остальными нашими нормами внутренней жизни.
Мне представляется, что сдвинуть что-то с мертвой точки можно не только там, где православные в меньшинстве и где они особенно озабочены проблемой выживания. Мне представляется, что главным на этом пути должен стать принцип действенности богослужения. Богослужение должно реально и полно действовать, а не просто быть канонически действительным. Конечно, кто же спорит, наше каноническое священство, наше каноническое богослужение, канонический храм и его убранство — все это действительно, но проблема в том, что все это часто недостаточно действенно.
Все, что происходит в храмах, у нас действительно, если уж только нет совсем грубых злоупотреблений. Мы редко встречаемся с такими грубыми злоупотреблениями в алтаре. Хотя бывает и это, священники и миряне иногда жалуются, жаловался и о. Сергий Желудков, и о. Александр, но это все-таки не массовое явление. Все там у нас действительно, но существенной, реальной, полной духом и смыслом действенности наше богослужение сплошь и рядом при этом еще не достигает. Человек, если он к этому расположен, может ощущать в храме лишь некий духовно-смысловой фон. Это то, что заставит его молиться, что может его привлечь, а если он способен при этом отключить свою голову и отключиться от своей повседневной жизни, тогда совсем хорошо. Мужчин в наших храмах было, есть и будет мало как раз потому, что им труднее отключить свою голову и отключиться, не говоря уже об их обычных надеждах на свои руки, ноги и т. д. Женщинам — легче, и мы имеем иногда даже, простите, их «избыток».
Так вот, «закон молитвы» должен стать по-настоящему действенным, и это очень непросто. Только не нужно для этого ставить задачу пояснять через книги или проповеди каждое слово, каждое действие в церкви. Это ложная задача. Многие уповают именно на это — мол, давайте всех научим сначала славянскому, потом всех обучим богослужебной символике, и все будет нормально. Но это неправда. Можно обучить и славянскому (нельзя всех, но кого-то можно, хотя бы некоторую часть филологов, уже находящихся в церкви), можно дать прочитать одну-две книги по символическому толкованию богослужения (и это легко усваивается с детским сердцем), но главной задачи мы этим никогда не решим. Это очень серьезно.
Хочу еще раз оговориться. Нам нужно очень ценить то, что у нас в храмах люди молятся, молятся действительно, и молитвенный дух в этих храмах силен. И мы должны очень серьезно задуматься над тем, как не потерять этого. Но мы должны думать и о полноте действия православного богослужения. «Закон молитвы» должен быть снова приобщен к полноте жизни Церкви. И для того чтобы богослужение стало действенным, надо стать свободным внутри всей церковной традиции.
Сейчас традицию иногда изучают, лучше или хуже, но со свободой внутри нее, как правило, сталкиваться не приходится. Не приходится даже тогда, когда говоришь со специалистами — с преподавателями семинарий и академий. Во всем православном мире, наверное, можно назвать лишь несколько имен людей, которые могут эту свободу иметь и еще умеют ее выразить. Это, может быть, двое-трое, я не знаю, еще сколько. Боюсь ошибиться, но дай Бог, чтобы было много-много больше. К сожалению, нет уже с нами ни Шмемана, ни Мейендорфа, не говоря уж про Афанасьева или Керна. Нет и Николая Дмитриевича Успенского, нет Желудкова. (Видите, я перечисляю имена знаменитых литургистов, но как-то апофатически — нет того, нет другого. Это мне напоминает начало второй главы Бытия. Помните, пока не было первочеловека, и вообще-то никого и ничего не было. То же самое и здесь.)
Итак, быть свободным в литургической традиции многим не удается. Не потому, что кто-то не хочет. А просто трудно уловить традицию в ее полноте и жить ею, ставя перед собой лишь утилитарные задачи. Вот, например, мне надо сократить богослужение, потому что надо сегодня ехать кого-нибудь крестить, отпевать или еще что-то в определенное время, и иначе нельзя. Значит, я должен уложиться, а коли я должен уложиться, значит, хочешь-не хочешь, но я должен думать, как сократиться.
Не в таких ситуациях рождается свобода! Хотя ситуация выбора — это некая проверка свободы. Что человек выберет? Что он считает для себя более ценным? Как он сможет сочетать элементы богослужения, чтобы в нем не было разрывов, не было дыр? Народ не заметит, особенно если батюшка служит благочестиво, с закрытыми царскими вратами, да еще за завесой. Тут вообще трудно заметить, что делает батюшка (хотя это не батюшки придумали). Но повторяю, такие ситуации, в которых священники часто или не часто оказываются, — это еще не освобождающие ситуации, они иногда, наоборот, угнетают.
Сейчас, чтобы приобщиться к свободе и полноте литургической традиции нашей церкви, нужно не просто пуд соли съесть, надо быть по истине мировым светилом в области литургики, надо знать все языки, объездить все библиотеки, посмотреть все книги — Дмитриевского и Арранца, и еще чего только не посмотреть. Но это нереально для просто верующего, это для него невозможно. Поэтому надо думать о том, как открыть пути такого освобождения внутри нашей же собственной традиции, естественные для обычных, нормальных членов церкви — и интеллигентных, и менее интеллигентных. Надо думать о том, чтобы богослужение было убедительным и ясным, исходя из самого себя, изнутри себя.
Это же такая простая задача. Этого достигают протестанты, но мы недовольны самой их традицией. Она нам не кажется полной, особенно в литургическо-сакраментальном плане. Но они эту задачу худо-бедно решают. Почему и многие люди, приходящие извне в церковь, с наибольшим удовольствием идут к протестантам, если не слишком «режут ухо» этим людям не всегда эстетически выдержанные песнопения и иные формы жизни в этой традиции. Если человек может смириться с этим, то он всегда выберет, в первую очередь, протестантизм, или католицизм, особенно современный, где в некоторых полухаризматических формах мессы тоже почти решена эта задача. (Только не очень уверен, что в традиционной мессе она решена — даже после того, как после Второго Ватикана престол был выдвинут и все всем было показано. Это мой субъективный опыт, может быть, я ошибаюсь, но в более харизматических формах мессы многое было не только упущено, но и как бы восстановлено.) А уже на третьем, последнем месте будет наше богослужение. При всей его изощренной красоте оно неподъемно, и не только потому, что очень длительно.
Да, наше богослужение, конечно, очень длительно, часто слишком длительно, и мы не знаем, как решить эту задачу на сегодняшний день. Например, мы служим литургию 3–4 часа каждое воскресенье, правда, при большом стечении причастников. И для нас, в нашем храме, стоит задача, к которой я не знаю, как подступиться: что сделать, чтобы сократить длительность службы? Ведь люди стоят с утра, ничего не евши, среди них и маленькие дети с родителями, и беременные женщины, и инвалиды, и т. д. А к тому же все современные люди немножко больны, немножко больше, чем это было прежде.
Тут я хотел бы подчеркнуть, что проблема сокращения и понимания богослужения не единственная. Иногда хотят идти слишком легким путем. Говорят: сделайте богослужение понятным, переведите его на современный русский язык — и все, найдите для этого только соответствующую форму русского языка. А ее можно найти, вполне пристойную для литургической молитвы, есть такой русский язык. Не весь русский язык заборный, подзаборный, желто-прессовый и т. п. Сергей Сергеевич Аверинцев доказал, что можно найти такой русский язык, и не только он.
Это тоже представляется мне очень важным, хотя и понимание — дело великое. Очень нужно, чтобы люди, входящие в храм, на слух понимали то, что происходит в храме. Конечно, понять при этом внутренний смысл может только посвященный, т. е. член Церкви, а непосвященный может увидеть какую-то долю красоты и добра собравшихся людей, но слишком ясно, что это будет еще не все из того, что заложено в церковном богослужении. Церковное богослужение значительно глубже и больше по своему призванию и по своей реальности, а тем более по своей потенции.
Сейчас, на мой взгляд, нужно очень поддерживать все серьезные, ответственные попытки сделать богослужение понятным. И пусть одни только внятно читают по-славянски не во время пения хора, допустим, «тайные молитвы», а другие просто меняют «живот» на «жизнь». (Это стало уже поговоркой, синонимом минимальной замены, минимального приспособления, не только, может быть, замены слов «живот» на «жизнь», но и еще ряда мест. Когда же нам говорят: «Вы, наверное, меняете «живот» на «жизнь», то предполагают, очень сочувственно, что вы, конечно, много хотите хорошего, но пока ничего сделать не можете. Я слышал такие высказывания, например, в Тезе. Очень понимаю этих людей, они ведь тоже нас видят и имеют представление о нашей внутренней жизни.) Хотел бы сказать, что есть и другие попытки. Есть попытки полностью читать все по-русски, например, по книгам в переводе Адаменко (их несколько, не только та книжечка, которая была переиздана в YMCA-PRESS). Некоторые священники их используют. Однако ясно, что это еще не литургический перевод. Когда о. Таврион Батозский под Елгавой в Пустыньке читал по-русски каноны на утрени, — а он очень широко вводил русский язык, — это было прекрасно. Когда я его слушал, а тогда он был уже старцем под 80 лет, все равно было ничего не понятно. Но все было хорошо, потому что не возникало проблем. Когда же начинаешь сам читать эти тексты, становится совершенно ясно, что их употреблять в церкви нельзя — это еще не тот русский язык.
Так вот, на мой взгляд, очень важно сейчас поддержать многочисленные и многообразные попытки, предпринимаемые в нашей церкви, сделать богослужение понятным, особенно из него самого. И все же это не будет, как я уже говорил, полным решением проблемы. Это еще не снимет с повестки дня вопроса о противоречии между «законом молитвы» Церкви и нашей внутренней и внешней христианской жизнью, для чего надо достигнуть полноты соучастия всего народа Божьего в происходящем за богослужением, надо достигнуть собирания воедино в Церковь, как говорится, самих душ христианских, чтобы любой человек, входящий в церковь, чувствовал, что здесь люди не чужды друг другу, что они достаточно тактичны, чтобы не лезть в душу другому, но и что они всегда готовы откликнуться, если эта душа попросит помощи.
Сейчас снова раздаются голоса о возрождении так называемой местной соборности в Церкви. И очень ценно то, что начинают это связывать именно с богослужением и храмом. Когда говорят, что у нас есть, например, такой обычный орган церковного управления, как приходское собрание, которое не тождественно приходу, но которое приходом управляет, то невольно возникает у всех заинтересованных людей вопрос: а чем же, собственно, приходское собрание управляет, т. е. что такое в этом случае приход? Пока, как правило, он не имеет конкретных границ, ибо нет списков прихожан, так называемых диптихов.
Существуют и проблемы собирания на местном уровне, проблемы возрождения местной соборности, многоуровневой, универсальной, а ведь в такой соборности и есть кафоличность. Мы должны увидеть, почувствовать эту кафоличность не только в книгах и в описании прошлого нашей церкви, но и в нашем настоящем, а значит, прежде всего в наших храмах, наших общинах, которые должны быть именно общинами, а не только приходами.
В этом состоит многообразие современных попыток решить практически сложные вопросы отношений молитвы и жизни. Наверное, имеет смысл о них лучше узнавать. Пусть они противоречивы, иногда открыто противоречивы, иногда неоткрыто, неявно. Но всем людям, которые ходят в храм, которые причащаются, нужно, наверное, быть очень заинтересованными в возрождении этой общинности, этой соборности, этой кафоличности, этой вовлеченности, этого соучастия и сослужения всех в одной жизни, в одном деле, в одной Церкви.