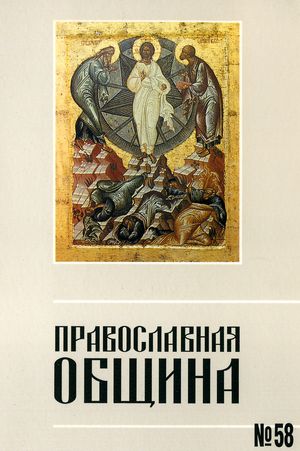Дар и ответственность
Дискуссия (если это слово уместно в применении к нашей ситуации), вызванная великопостным письмом А.И. Солженицына, выявила ряд проблем нашей церковной жизни, оставшихся, и сущности, нерешенными. В качестве одной из первых попыток теоретического осмысления этих проблем следует указать на статью М. Меерсона-Аксенова «Народ Божий и пастыри»См. Вестник РСХД. № 104—105. С. 101.. Статью его можно назвать в какой-то мере итоговой не потому, что она появилась последней, и не потому, что автор как-то разрешает начавшийся спор о церкви, но потому, что он переводит его в совершенно иное русло. Автор вполне прав, когда говорит, что «недостаток переписки в том, что она остается пока в одном диапазоне — оправдания или обличения иерархии и споров вокруг сегодняшней ситуации русского православия. Участниками переписки церковь заведомо воспринимается как статическое образование, но требуют от нее динамизма, берут ее в отрыве от истории, но хотят, чтобы она стала действенной исторической силой». При таком подходе проблема остается не только нерешенной, но морально и религиозно неразрешимой. Это одна из предпосылок (хотя и не высказываемых) того хода рассуждения, который лег в основу всей статьи.
Несколько слов о самой работе. С точки зрения ясности мысли, сопряженной с широкой публицистической, исторической и экклезиологической перспективой, это одна из самых интересных работ в самиздате. Ее появление внушает надежду, что бесцензурная литература в России, помимо протестов, политических исповедей, протоколов судебных заседаний, помимо стихов или романов может когда-нибудь заговорить и на должном теоретическом уровне. Ведь это одна из самых трагических литератур в мире, она вырастает из чьей-то зажатой правды, из замолчанного страдания или из преодоленного дурмана. За каждым написанным и вырвавшимся на свободу словом стоят тысячи недошедших и недосказанных слов и свидетельств. Опыт, который лежит в основе этих свидетельств, всегда неизмеримо глубже, полнее и суровее рожденной им литературы, как бы хороша она ни была. И потому умение как-то осмыслить его, умение духовно и интеллектуально вобрать в себя глубину этого опыта, умение передать его четким логическим языком есть уже неоспоримое достоинство в той среде, где литературный язык, профессиональные навыки и, наконец, сама логика как бы полностью принадлежат литературе «разрешенной». В принципе это относится к любой теоретической работе, о чем бы там ни шла речь: о проблемах экклезиологии или метафизике, о социальной психологии или о дзен-буддизме или, скажем, о развитии науки в связи с охраной государственных границ.
Что касается статьи «Народ Божий и пастыри», то сейчас мне хотелось бы остановиться на моральной позиции ее автора. Он не отказывается от собственного мнения, но и не пытается увенчать им развернувшийся спор; он не хочет защитить или обличить кого-то, но и не ставит себя «над схваткой». Он просто предлагает взглянуть на дело иначе. При этом говорит он как человек, сравнительно недавно ставший членом Русской православной церкви, духовно разделив ее судьбу, не жертвуя вместе с тем ни собственным разумом, ни зрением, ни слухом. И он обращается к молодым христианам, приглашая их не судить кого-то, не закрывать глаза и не затыкать уши, но задуматься над положением Русской церкви в современном мире с точки зрения их собственного пребывания в ней. Он ставит вопрос о служении церкви миру, имея в виду прежде всего служение церкви самих христиан, не иерархов, не священников, но мирян, составляющих «народ Божий». Подобная точка зрения исполнена не только глубокого нравственного такта, но, по сути дела, должна стать единственным выводом, который сегодняшние христиане, в особенности молодые христиане, могут сделать из дискуссии, развернувшейся вокруг письма А.И. Солженицына.
Но отказываясь от суда над сегодняшним духовенством, автор обращается к суду над той традицией, из которой оно вышло, обращается к той издавна сложившейся психологии церковности, к тому укладу, который известен в качестве «исторического православия». В его статье как бы собраны воедино те упреки, которые делались «историческому православию» со стороны многих выдающихся иерархов прошлого, некоторых славянофилов, деятелей русского возрождения, вождей «обновленчества» и др.
Основу тех грехов, в которых упрекают православие, видят обычно в византийском союзе церкви и государства. В результате этого союза, а также по ряду других причин первохристианские общины превратились постепенно в подданных «христианского государства», в котором вера приняла слишком земной (при исполнении обрядовых «повинностей») и одновременно слишком небесный характер, ибо имела слабое отношение к повседневной жизни. Подлинная вера находила для себя прибежище в монастыре или в пустыне; только здесь открывалось для нее поле деятельности, в миру ей практически нечего было делать. Монастырь становится духовным законодателем «мира», «мир» терпят (коль скоро он живет идеалами монастыря) не ради всеобщего, но исключительно ради личного спасения, если живет он не аскетизмом, но хотя бы аскетической идеологией, не радостью в Божьем мире, но под знаком «мементо мори», не человеческим, но только ангельским, либо уж совсем бесовским. «Идеология» аскетизма (которая сама по себе еще не ведет ни к каким подвигам, требующим особой благодатной помощи) несет вслед за собой принципиальное равнодушие ко всему, что происходит в мире помимо поста и молитвы, она заражает церковное сознание ложной спиритуализацией (с ее тяжелым символизмом жестов и одеяний); литургия при ней — некогда «общее дело» христиан — превращается в мистерию культа, которую священники-профессионалы «исполняют» перед мирянами-потребителями. Вера пропитывается монашеской психологией; жизнь, как говорит автор статьи, мерится лишь «ангельскими добродетелями», которые как нельзя лучше соответствуют покорности церкви перед государством; космическое переживание греха нисколько не помогает увидеть то конкретное зло, которое в этом государстве творится. Неудивительно, что добровольное подчинение православному царю становится однажды в результате исторических катастроф (предотвратить которые церковь не только не могла, но и не умела) полным подчинением структуре атеистического государства.
Все это, повторяю, не сегодняшние открытия. Полвека назад они были выплеснуты обновленчеством, которое сделало их своей программой, замыслом для предстоящих реформ. Но увлекшись этим замыслом, обновленчество в той конкретной эмпирической обстановке, которая была ему предоставлена историей, стало опираться на силы, в принципе враждебные христианству и церкви. В тот момент, когда церковь как никогда нуждалась в единстве, солидарности и верности всего церковного народа, обновленцы бросили ей свой высокомерный вызов (я не говорю здесь о политической подоплеке дела, ни о том, что можно назвать «поповским бунтом»). Они «ветхому» обрядоверческому христианству противопоставили новое «духовное» христианство, старым грехам асоциальности и «неотмирности» они противопоставили свою социальную правоту. Большей частью они были правы в своих упреках, но в тот момент правота их была худшей и злейшей ложью, так же как ложью была (и остается) правота карловчан, так же как ложью была (и остается) всякая безопасная правота, чем бы она ни прикрывалась. И сегодня мы находимся в парадоксальной ситуации. Мы знаем, что исторически и нравственно их правота была ложью. Но если мы делаем вид, что этой правоты вообще не существует, что тех проблем, которые встали перед церковным сознанием в начале века, не было и нет, что они, эти проблемы, — только шутовской хоровод антихриста, то мы также впадаем в весьма сомнительную правоту, которая в какой-то момент оказывается такой же ложью. И проблемы эти остры как никогда, как бы ни были скомпрометированы в наших глазах те, кто их ставил или ставит.
Но здесь речь пойдет не о самих проблемах, но об отношении к ним. Посмотрим сначала, какие выводы делает автор статьи из своего анализа. Логика его такова: из одностороннего монашески-аскетического уклада христианства развилось секулярное движение, которое противопоставило церкви все то, что было утеряно «историческим православием». Плоды секулярного движения — наука и техника, культура и социальная этика — оказались во вражде с христианством, которое ничего не желало о них знать, которое в лучшем случае допускало их как средство заработка, как безвредное занятие, заполняющее промежуток между двумя посещениями храма. Отсюда вырос тот поистине драматический конфликт, который в секулярном обществе рассматривается как реальное выражение исторического процесса, а православными просто «списывается» за счет приближающегося конца мира и скорого суда над язычниками. Внешняя победа в этом конфликте досталась секулярному движению (науке и технике, культуре и социальной этике), сложившемуся при определенных условиях в колоссальный идеологический массив, подмявший под себя всякую духовную деятельность, и прежде всего — церковь. Но «сила современной секуляризации, — пишет автор, — в том, что в ее лице семь новозаветных дьяконов восстали против апостолов, и обе стороны эти забыли, что благодать Божия почила на обоих служениях, коренящихся в самой природе Церкви».
То, что семь новозаветных дьяконов, которым надлежало печься о столах, некогда восстали против апостолов, которым надлежало благовествовать и молиться, в этом, думается, нельзя уже обвинять ни иерархию, ни все православие в целом. Христос не обещал нам, что весь мир станет Церковью. Он обещал лишь, что Церковь не будет побеждена миром. И церковь, которая принципиально отказывается от того, чтобы когда-нибудь воцерковить мир, становится просто обрядовой сектой, оплотом фарисейства и законничества. Именно эта задача воцерковления лежала в основе византийского союза церкви и государства; и даже сегодня, когда этот союз расторгнут, церковь как бы продолжает поддерживать его не только пасхальными и рождественскими посланиями, но и молитвами о «мире всего мира», о «граде сем, всяком граде», об «изобилии плодов земных», о «стране» и даже о «воинстве». Давно уж ни страна, ни воинство не просят ее молитв, но церковь все же не может отказаться от них не потому лишь, что так заведено и «не нами положено», но потому, что в этих молитвах она выражает сущность своего отношения к миру. В этом смысле ситуация церкви сегодня мучительна: мир говорит, что не нуждается в ней, она же в принципе не может помириться с его враждебностью и безразличием. Точно так же церковь в принципе не должна успокоиться на том, что у детей ее могут быть какие-то посторонние дела и интересы, какие-то призвания и свершения, которые не могли бы стать общим церковным делом, которые не могли бы быть освящены ее благословением и молитвой. Я не говорю об идеальной церкви, ибо церковь идеальная, вознесенная над церковью земной, — это чаще всего вредная и лживая фантазия. Я говорю о нашей церкви, которая сегодня молится, сегодня совершает Евхаристию. И сегодняшняя ее молитва, сегодняшняя Евхаристия есть нечто, что свидетельствует о ее сегодняшней реальности.
Это есть реальность Русской церкви, реальность русской судьбы. Судьба — не бремя, возложенное Богом, не лишний груз, который зачем-то надо дотащить до конца и сбросить у заветного порога, судьба есть дар, который мы приняли однажды, откликнувшись на призыв Божий. Мы избрали его свободно, а это значит, что мы могли бы и отвергнуть его, не заметить, не услышать, оказаться полыми и глухими перед Словом Бога. Но мы избрали свою судьбу как свободу, дарованную Богом, свободу, которую предстоит нам теперь осуществлять на земле. Мы не можем, строго говоря, владеть им, ибо свобода требует для себя постоянного воплощения, и мы не можем быть с ним одиноки, ибо этот дар связывает нас с другими. И все вместе мы несем ответственность за него. Ведь мы откликаемся на призыв Божий не только в глубине наших душ, но и в контексте той духовной, исторической, социальной, культурной и языковой реальности, в которой мы сегодня существуем. Только в недрах этой реальности мы обретаем свою особую судьбу, которая сплетается с судьбой Церкви. Здесь откровение воплощается в живых и особых для каждого народа формах творческого тайноведения — камня, слова, жеста или краски. Церковь — это уже сегодня начавшееся преображение материи, преображение, которое совершается по замыслу Бога о каждой земле и о каждом народе. И Церковь — это призыв Божий, обращенный непосредственно к каждому из нас через опыт веками наслоившихся молитв, благословений, призываний Духа Святого, хотя, разумеется, одним обращением не исчерпывается смысл Церкви. Принимая это обращение как дар, мы несем уже за него полную ответственность. Это значит, что мы принимаем беды Церкви как свои именно потому, что участвуем в ее молитвах и верой постигаем абсолютную достоверность ее таинств.
Церковь доносит до нас тот призыв, который мы слышим как Слово Божие. Сегодня нередко слышат Его и становятся христианами люди, выросшие вне христианского воспитания и церковных традиций, вне воспоминаний о детской вере и, как правило, вне какого-то активного влияния со стороны. Человеческое воздействие чаще всего остается слабым в нашей среде, но и тогда, когда оно бывает энергичным и напористым, обращение к Богу происходит в той части души, которая скрыта от постороннего взгляда, иногда закрыта даже от разума вообще. Но в чем бы оно ни выражалось, человеческому обращению — и это следует подчеркнуть — предшествует обращение Бога, всякий зов человеческий раздается лишь в ответ на призыв Божий, всякая вера в Бога начинается с веры Бога в человека. И в этой вере Бога и в Его обращении уже содержится тайна моей личности, в Его призыве — истоки моего беспокойства, в Его власти — глубина моей покорности и свободы. В моем обращении я прежде всего отвечаю Богу, и чувство ответственности, которое вытекает из обращения, служит в какой-то мере критерием его подлинности.
Я не говорю здесь о принятии христианского мировоззрения, о погружении в христианскую настроенность, т.е. о том, что может сопутствовать множеству иных жизненных и душевных событий и существовать наряду с ними; я говорю о событии, которое в определенный момент стало единственным событием жизни. Я говорю об обращении, которое однажды стало действительным ответом на Слово Бога, и о тех, кто действительно захотел последовать Его Слову. И даже если это желание наше осталось неисполненным, то нам следует хотя бы вспомнить о нем, вспомнить об обращении Бога, задуматься над смыслом этого обращения, насколько он может быть нам доступен, и над тем требованием, которое из него вытекает.
Встреча с Богом Живым оставила в нас чувство радости и даже гордости. Мы гордились не собой, но Богом, который встретил нас, Богом, который пожелал стать нашим Богом. Но в какой-то момент «добрая» наша гордость становится злой, гордостью не Богом, но собственной верой в Него, не призывом Божьим, но переживанием призыва, не обращением Бога, но психологией нашего обращения. Мы легко забываем, что все это дар, который в любую минуту может быть отнят; мы принимаем его как должное, как нечто, данное нам навсегда, как нечто, гарантированное нам церковью, таинством, обрядом или общей молитвой, мы принимаем его так, как будто от нас не требуется уже никаких усилий, как будто после нескольких шагов мы уже можем собирать плоды нашего благочестия. Мы незаметно влюбляемся в свою избранность, в свою религиозность или церковность и начинаем даже утрировать их. Мы влюбляемся в то, что некогда было подарено нам, — в причудливую разумность догматики, в условность иконописи; все это срастается с какой-то частью нашей души, становится внутренним укладом и ритмом ее «ощущений». Мы точно так же влюбляемся и в церковь, в «идею Церкви», и наша привязанность охватывает и то, что в ней вечно, и то, что в ней ветхо и находится в нестерпимом противоречии с самой этой идеей. Чем же иначе, как не этой религиозной самовлюбленностью, этой жадностью к собственному мистическому благополучию объяснить тот факт, что последовав призыву Христа, встретившись с реальностью благодати, мы столь быстро расходимся друг с другом, забредая в красивые духовные тупики и почти совершенно переставая слышать и понимать друг друга?
Тупики эти, при всем их конфессиональном разнообразии, имеют между собой нечто общее. Все они существуют в атмосфере взаимной нетерпимости. Нетерпимость у нас не всегда даже носит эмоционально-агрессивный характер. Невозможность открыто выразить свои взгляды широкому кругу людей препятствует религиозным встречам большинства людей, препятствует религиозным встречам большинства верующих, и потому они нередко заражаются особой, равнодушной нетерпимостью друг к другу. Это, пожалуй, худший вид нетерпимости, когда один христианин не желает знать о существовании другого, не интересуется его верой, не желает с ним спорить или у него учиться. В этой нетерпимости есть данная и затаенная безнадежность; люди так одиноки, что не замечают друг друга, и даже вера в единого Бога становится предлогом для равнодушия и нелюбви.
Вера, очевидно, живет по еще не открытым или слабо изученным законам, недоступным никакой глубинной психологии или наблюдению со стороны. То, что совершается внутри этой веры, то, чем она живет и чем становится, зависит от того ответа, который мы даем обращенному к нам Слову. «Дар» веры соответствует серьезности ответа, глубина веры зависит от «объема» или силы Слова Божия, которую мы были способны вместить. Разумеется, мы всегда способны воспринять лишь малую «часть» Слова — полнота Его, как мы верим, принадлежит Церкви. Реальность Церкви шире реальности богословия, обряда и даже таинства, ибо она есть то, что делает все это возможным. Реальность Церкви заключается прежде всего в этой полноте Слова, обращенного к человеку, и в своей обращенности Церковь как хранилище Духа Святого есть живое воплощение христианской веры.
Христиане, члены Церкви, обладают всегда лишь малой долей ее богатства. Они обладают частицей Духа, частицей совершенной веры. Наша вера всегда есть свободный дар Божий, дар, который не может быть гарантирован, дар, который всегда под угрозой. Опасность для веры заключается не только в том, что она может быть утрачена, но и в чувстве, что она уже «обеспечена», в сознании, что она принимается как нечто должное, само собой разумеющееся, в отождествлении частицы веры с ее целым, душевного «устроения» веры с благодатью. Уступка одному из соблазнов есть наполовину уже утрата, и полная утрата в тех редких случаях, когда она происходит (редких лишь потому, что с трудом всегда слезает старая кожа «верований»), если нет для нее замены, есть только завершающая реакция в процессе отмирания веры. Следует помнить об этой хрупкости веры, об угрозе над ней, о способности ее перерождаться в различные идеологии, часто даже вполне религиозные и возвышенные, во всякого рода мнения, часто даже вполне справедливые, в самые искренние пристрастия и самые благородные мечты.
Именно поэтому, вступая в Церковь, мы обживаем ее нередко как идеологический клан, как племенное единство или обрядовую архаику. Мы вносим в нее привкус горделивого обособления, особую озабоченность собственной душевной мистерией, особый отпечаток слова, жеста, жизненного стиля. Мы, исходя из потребительского, почти гедонистического отношения к вере, начинаем любить недуги нашей церкви, ее давние, неизлеченные болезни, считая их чуть ли не главными ее достоинствами. Мы пользуемся монашеским идеалом, чтобы сбежать от действительности, которая нам отвратительна, мы играем в смиренномудрие, чтобы уберечь себя от опасных и неудобных мнений, мы обращаемся к «духовной брани» на вершинах аскетики, чтобы уклониться от насущных и повседневных требований, перед которыми ставит нас христианская вера. И, наконец, мы с готовностью принимаем из вторых рук законническое понимание христианства, чтобы неизменно чувствовать себя агнцами среди козлищ и в этой жизни, и в будущей.
В процессе богочеловеческого o6щения мы начинаем культивировать чисто человеческую «мистику» в дурном смысле слова, которую мы считаем своей «лучшей частью». «Мистика» начинается тогда, когда не Бог, но чувства, которые Он внушает нам, вызывают наше поклонение, не вера, но разнообразные подражания вере становятся нашей целью. Мы оказываемся в плену у собственной религиозности, собственных душевных мистерий и декораций к ним. Никакой живой голос уже не проникает за эти стены, никакой вопль со стороны не выведет нас из равновесия, не пробьет эту затвердевшую скорлупу, в которой мы столь удобно устроились. На всякий случай у нас есть множество отговорок и полное алиби, ведь так легко сослаться на внешнее сходство наших убеждений с верой святых, так легко воспользоваться чужим аскетизмом, чтобы в аскетической позе отвернуться от своего соседа, так легко «пережидать» историю в чаянии скорого конца света, а не разделить крест истории, возложенный на Церковь и на наших ближних. Так легко забыть о мучительной ситуации Церкви, заслониться от «муки» Церкви собственным благолепным переживанием церковности.
Этот религиозный «гедонизм» представляет собой, по сути дела, бегство от Церкви, неприятие ее реальной сегодняшней судьбы. Бегство это обычно совершается ради церкви идеальной, несбыточной, живущей либо в выдуманном прошлом, либо за морем, в полуденных странах. Бегство назад, когда церковь становится символом древнего отечества, почти сливаясь с ним, есть уход от веры к религиозному патриотизму. Не сегодня мы становимся перед Богом, не сегодня трезво и со смирением мы стремимся прочитать Его волю, не сегодня ищем своего признания, но забываемся в полудреме национальных чаяний и в наших сладких снах видим чуть ли не осуществление апокалиптических обетований. Впрочем, слово «патриотизм» уместно лишь до тех пор, пока не началась еще охота за непатриотами (пусть даже холостыми патронами), едва лишь охота началась, следует говорить уже о шовинизме.
Об этом шла речь уже не раз; можно и необходимо любить свою родину, и человек не полон без этой любви, но любовь к родине может быть служением Богу или идолопоклонством. Можно и необходимо любить древнюю церковь, национальный обряд, быт, историю, неуловимый душевный склад своих соплеменников, и эта любовь связана с самой идеей Воплощения, но она может быть языческой или христианской. Христианская любовь — та, в центре которой стоит Христос, которая исходит от Христа.
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется дом ваш пуст
(Мф 23:37–38). Не должна ли наша любовь к родине опираться на любовь Христа? И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников
(Лк 19:41–46). Что прибавить к этим словам? Не сказано ли здесь все плачем и гневом? И плачет Христос не только о том, что римляне вскоре войдут в «дом Израилев» и разорят его, и разгонят народ его по свету на тысячелетия, но и о том, что не узнал он времени посещения своего
. И разве торговцы, выгоняемые из храма, и те, кто покупал у них, и те, кто допустил их в храм, не могли обвинить Христа во всех непатриотических соблазнах? Разве не могли они при желании усмотреть в Его поступке умышленное оскорбление храму и разрушение устоев народной жизни? Страна под иноземцами, — сказали бы они, — не время теперь для обличений и распрей. Безусловно, могли и сказали бы, если бы не придумали для этого еще более сильной формы: обвинения в богохульстве.
Но любовь Христа не есть ли мера нашей сегодняшней любви? Разве может христианская любовь к отечеству не помнить о том, что и наша земля не узнала когда-то времени посещения своего
?! Что и она осталась некогда «пустым домом»? И все же в любви к этому дому мы встречаемся со Христом, ибо только в Его любви, плаче и гневе очищается и просветляется лицо России (сегодняшней и вечной). И если мы вправе говорить о святой Руси, то лишь в силу того, что она есть Святая Земля для русских, образ не прошлого, но небесного Иерусалима. Вера призвана видеть именно этот образ, именно это лицо, не смешивая его с лицом земным, не выдавая болезней за самобытность, не считая напоминания о грехах святотатством.
В этом смысле не может быть ни святотатством, ни кощунством (оскорблением мертвых) призыв к покаянию среди тех, кто считает эти грехи своими, кто как бы принимает за них ответственность. И если только не был он вызван желанием спровоцировать покаяние у другого, оставшись самому в стороне, если исходил он из чувства настоящей соборности (которая не сводится только к соборности богослужения и молитвы), не есть ли это призыв ко спасению? О каком, собственно, ином спасении может идти речь для христианина? И когда говорят о спасении отечества, то и для него спасение возможно лишь одним путем — покаянием в Церкви. Отечество — это и есть Церковь, и все, что на племенной, географической, языковой родине не относится к Церкви Христа, Церкви в самом широком смысле, все, на что не падает отсвет ее красоты, все, что не пронизано ее духом, все, что не вовлечено в «общее дело» преображения, относится уже к падшему миру, который лежит во зле. И для грешной родины (не только сегодня грешной), и для грешной души покаяние есть единственный путь примирения с Богом.
Но грехи мы с легкостью вытесняем из памяти, перебрасываем с родной почвы на чужую, скажем, с Востока на Запад. Существует, правда, и противоположный путь — перекачивание исторических и всяких иных грехов с Запада на Восток. В христианском сознании у нас он выражает себя в демонстративном (либо очень скрытом, замаскированном) переходе в католичество (иногда даже до крещения или вне его). Русский католицизм — это явление особого порядка. Его нельзя путать с католичеством французским, польским или литовским. Русский католицизм сегодня, как и раньше, возникает как острая, болезненная реакция на духоту русской жизни, на елейное славянофильство, в котором не видят ничего, кроме стилизованного язычества, на поверие некоторых православных, что Христос — это русский бог, убитый евреями, на всю мифологию о масонах, которая стелется у церковных стен, на все, что вяжется с русским суеверием и косностью. Во всем этом есть много преувеличенного, ибо русский католицизм вырастает из русской тоски и русского эстетизма, из русской же уверенности, что из России не приходит ничего доброго, что последняя истина обитает в разумных благоустроенных странах, что она запечатана в старинных латинских книгах, что она растворена где-то в мистике Римской церкви, во всей ее земной устроенности и влекущей к себе глубине. Оттого-то русский католицизм бывает столь же глухим, душным и, как и русское обрядоверие, оттого-то он молчаливо одобряет инквизицию и нередко дышит воздухом Контрреформации и Тридентского собора, не замечая при этом той огромной (по выражению Мориака) оттепели в Риме, которая стала фактом сегодняшней истории, той неподдельной широты вселенскости, которая свойственна подлинному духу Римско-католической, как и Русской православной церкви.
Я вовсе не хочу сказать, что вера навсегда повенчана с национальностью и что среди русских нет настоящих католиков. И не потому плох русский католицизм, что он есть попросту измена церкви, как думал Хомяков, но лишь потому, что он начинает служить таким же прибежищем для религиозных фантазий, для мистического «смакования» церковности, для духовного превозношения, как и самое заядлое славянофильство. Как и в славянофильстве, у его истоков может лежать напряженная, чистая вера, напряженность которой там и здесь снимается чувством безмятежного обладания истиной, чистота которой там и здесь замутняется магией авторитета или романтикой крови и почвы. Но в обоих случаях (в ревнивой, несколько инфантильной любви и в столь же инфантильном высокомерии) обнаруживается, как уже говорилось, попытка бегства от реальной, сегодняшней Церкви, от той Церкви, которая здесь и теперь утверждает парадоксальность христианской истины в мире, которая разделяет судьбу народа, пораженного массовым безбожием, и именно среди него должна искать осуществления христианской правды.
Если же мы в церкви ищем всегда удобной и безопасной правоты, то что говорить о сектантах со всеми их «неудобными» суевериями и предрассудками. Вот еще один парадокс церковного сознания; ведь в секты идут люди, не ищущие никаких укрытий, желающие быть христианами сегодня, а не в Царствии Небесном, принимающие веру непосредственно как задание от Бога, которое надлежит исполнить на земле. И этот парадокс нам следует принять честно и открыто, не разрешая его в разговорах о «второсортности» чужого христианства, улыбками над «баптистской суетливостью» или иронией над их примитивным эсхатологизмом. То, что эти люди стоят вне предания и соборного опыта, есть прежде всего наша неудача, то, что они живут вне Евхаристии, есть прежде всего наша беда.
Мы, принимая дар веры в Церкви, несем ответственность и за себя и за них. Мы несем ответственность и за саму церковь и не можем и не имеем права перекладывать ее ни на какие другие плечи. Сознавая эту ответственность, мы принимаем ее историческую судьбу, ее небесную славу и земную немощь. Мы не разделяем, но и не смешиваем то и другое. И мы также не имеем права проводить в церкви какие-то границы между нашей праведностью и чужими грехами, между нашей свободой и чужим сервилизмом, между нашей духовностью и чужим суеверием. В Церкви нет своего и чужого, здесь все наше, и то, что лежит позади, и то, что впереди нас. С прошлым нас связывает историческая и духовная преемственность, настоящее и будущее есть время нашего служения Церкви. Служение каждого может быть особым, но оно всегда должно исходить из динамизма и активности веры. Вера требует активности, которая может быть активностью священства и творчества, активностью аскетизма и проповеди, активностью свидетельства и молитвы.
Мы же избираем подчас тепловатую мистику, паразитирующую на вере, созерцание своего духа вместо служения Церкви, магическую завороженность стариной вместо живого интереса к истории. Церковь не существует в историческом вакууме, и она не создана лишь для эстетического умиления и воспоминаний детства. Она живет во «взрослом» современном мире, и мире, который «мучается и стенает», нуждаясь в воцерковлении и благодати. Иногда считается даже особенно благочестивым выбросить как лишний психологический мусор все, что имеет отношение к этому миру. И оттого неизбежно возникает жизнь «на двух этажах»; оттого активное взаимодействие с историей заменяется идеологической бутафорией ушедших столетий. Но Церковь вовсе не требует от нас, чтобы мы стилизовались под ее вчерашний день, чтобы христианское благовестие мы принимали вместе с повериями некоторых старушек, чтобы в лукавой покорности некоторых иерархов мы видели высшее смирение духа. Церковь пребывает в глубине своей неизменной, но в каждой исторической эпохе она раскрывается в новом облике. Сегодня она должна раскрыться в каждом из нас и в каждом выдержать конфронтацию со стремительно растущей цивилизацией, с эпохой планетарной техники и обезбоженных идеологий. В каждом она должна стать ответом на запросы секулярного века и быть разрешением (хотя бы внутренним) его проблем. Ибо Церковь утверждает и Царство Божие, и правду о земле, которые зависят от усилий каждого.
* Ныне — священник, настоятель православного храма в Сан-Ремо, Италия.
** Печатается по: Вестник РСХД. 1973. № 108—109—110. С. 129—142.