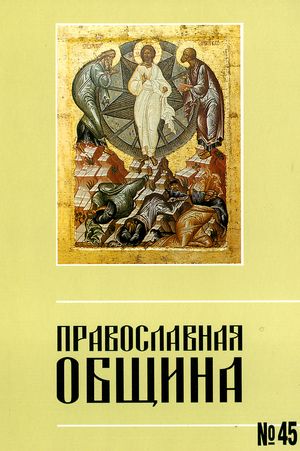О восстановлении соборности в русской церкви
Уже давно у нас, в обществе и печати, раздаются жалобы на ненормальное состояние нашей церкви. Если люди, примыкающие по своему умственно-нравственному складу к сектантству рационалистических толков, нападают на самые начала нашей церкви, то лица, убежденные в абсолютном достоинстве этих начал, жалуются на то, что положенные в основание православной церкви святые, вполне отвечающие духу учения Христова, начала лишены возможности проявиться вовне и показать свою жизненную силу вследствие утвердившегося в церкви как общественном организме мертвого формализма. Главной причиной последнего обстоятельства обыкновенно признается ненормальное отношение церкви к государству, которое своею чрезмерною опекою делает свободное проявление церковного начала невозможным. Последняя мысль требует серьезного, вдумчивого отношения к себе.
В противоположность государству, которое зиждется на формально-юридической основе, церковь есть институт по преимуществу нравственный. Государство ставит своею задачей охранение посредством внешних мероприятий прав личности от вредного посягательства на них извне; церковь, путем чисто нравственного воздействия на внутреннюю жизнь человека, на его ум, на его волю, на его сердце, имеет целью пересоздать внутренний мир его души по закону любви, которая есть первая и наибольшая заповедь Христова. Сообразно с этим, государство самым убедительным аргументом в системе своих мероприятий признает внешнюю принудительную силу; основной стихией церковной жизни является свобода. Личность, искренно вступающая в церковь, заблаговременно отрекается от своего эгоизма и выражает готовность добровольно подчиниться водительству Духа Божия, живущего в единстве человеческих убеждений, в единстве человеческих совестей.
Единство церкви не исключает возможности разногласия мнений; но оно не допускает вражды из-за этого несогласия. Иисус Христос, определяя признаки истинных последователей Своих, сказал: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою
(Ин 13: 35). Если обычные человеческие средства для примирения разногласия мнений оказываются недействительными, то у церкви есть еще одно могущественное средство — это молитва к Святому Духу, да вразумит Он неразумных. Но если бы человеческое сердце до того одебелело, что сделалось недоступным и этому воздействию, то это показало бы, что человек перестал быть христианином и фактически вышел из церковного состава, и церкви ничего не оставалось бы, как формально признать то, что фактически уже совершилось. Таков смысл церковной анафемы.
Ясно, что в церкви нет и быть не может места для насилия, по той простой причине, что насильственные мероприятия своим действием не могут проникать в ту область, которой владеет церковь. В области внутренней жизни духа насилием можно создать лицемерие, ложь, обман, но нельзя создать честного, искреннего убеждения. Вот почему применение в религиозной сфере насильственных мероприятий — это несомненный признак того, что чистота христианского сознания стала мутиться и церковное начало стало уступать место началу государственному. Цель высших идеальных стремлений церкви в отношении к государству заключается в том, чтобы ассимилировать его по своим законам, пропитать его своим духом, т. е. формально-юридические отношения его членов заменить отношениями нравственными. Пока церковь этого не достигла, она, по возможности, должна держаться в стороне от государства, строжайше соблюдая чистоту своих нравственных основ. Проникновение церкви государственным началом есть смерть для церкви. Как только нравственные отношения членов церкви заменяются отношениями формально-юридическими, а для поддержания церковного единства начинают употребляться внешние, насильственные мероприятия, то это несомненный признак того, что начало церковности стало иссякать в общине и, чувствуя ослабление своих собственных сил, она открыла недра свои для проникновения туда начала государственного. Такая община нуждается во внутреннем самоочищении, и если она этого не сделает, то Дух Христов оставит ее, она станет обычным человеческим обществом, и нравственно-воспитательное воздействие ее на государство сделается невозможным.
Что в недра нашей церкви проникло начало государственное, это уже давно сознано. Тем не менее истинный смысл этого явления едва ли сознается у нас со всей ясностью, во всей полноте его объема. Дело в том, что корень рассматриваемого зла заключается не столько в форме установившихся отношений церкви и государства, как это обыкновенно полагают, сколько во всем строе нашей государственно-общественной жизни, который вообще характеризуется чрезмерным развитием государственного начала за счет начала личного и общественного. Было время, когда созидание государства было у нас делом первой и безусловной необходимости, и тогда русский народ с полным самоотвержением приносил в жертву этому делу все свои материальные средства, почти все свои духовные силы и даже самое дорогое свое сокровище — свободу. И это было необходимо: без этих великих жертв не возникла бы русская земля. Но время это прошло; государство организовалось, окрепло, и никакая опасность ему не угрожает, а поэтому теперь пора нам понять, что цель и смысл государства заключается не в самом государственном механизме, а в свободном развитии под его охраной личности, организованной на началах разумной общественности. Думать иначе — это то же, что цель и смысл жизни какой-нибудь улитки полагать в покрывающей ее мертвой скорлупе, а не в развивающемся под ее прикрытием живом организме.
Одну из характерных особенностей нашего времени составляет то, что личность, прежде сильно задавленная, теперь неудержимо стремится к развитию и проявлению. А развивающаяся личность неизбежно требует признания своих прав, не тех прав, которые предоставляются ей запоздалой в своей регламентации формой закона, а тех прав, которые определяются безотносительным достоинством самой личности. Остановить последнюю в ее поступательном движении никто не в силах; думать иначе, это значит не знать ни истории, ни человеческой души. Вы можете временно остановить внешнее проявление личности, но этим достигнете лишь того, что заставите ее, так сказать, замкнуться внутри себя, где она, окрепнув и получив в борьбе с препятствиями упругость и страстность, проявит себя при случае там и так, где и как вы не ожидали. Да и что за охота брать на себя столь неблагодарную задачу — бороться с тем, что очевидно берет под свое покровительство история?
Переживаемая нами государственная смута служит блестящей иллюстрацией этой мысли. Для всякого вдумчивого наблюдателя до очевидности ясно, что причина ее заключается не в ослаблении государственного начала, а наоборот, в чрезмерном развитии этого начала и в запоздании с его стороны уступок в пользу законных требований начал личного и общественного. К сожалению, понимание этой, казалось бы, столь очевидной истины нам слишком туго дается. Вследствие чрезмерного развития у нас государственного начала с его формально-юридической основой, общественное начало с его нравственной основой у нас совершенно задавлено. Внутренно-изолированная, связанная лишь внешнею формой, лишенная благотворного воздействия общественности, личность в своей внутренней жизни предоставлена произволу своего личного эгоизма и вследствие этого, если можно так выразиться, нравственно засохла и духовно омертвела; а из мертвых частей нельзя составить живого целого.
Здесь главный источник мертвенности нашей церкви. Ревнивое отношение правительства к своим правам и вытекающая отсюда, граничащая иногда с полным деспотизмом опека над личностью, приучили нас к формальному отношению к своим обязанностям и к заботам лишь о том, чтобы быть чистыми пред формой закона. Проявление при таких условиях частной инициативы крайне затруднительно, а в делах серьезной важности даже совершенно невозможно. А где не уважается и даже преследуется частная инициатива, там нет места и для общественной самодеятельности, там неизбежно воцарится все мертвящий формализм, на который у нас столько жалуются. Тот же формализм, с каким относятся к делу наши гражданские чиновники, наблюдается и в служении пастырей церкви, которым нет дела до того, что происходит в душе их пасомых, исполняли бы они только возлагаемые на них церковным правительством обязанности и повинности. В наше время можно быть не только злейшим еретиком, но и полным атеистом, и в то же время считаться примерным членом церкви; ибо для нас дороги не убеждения человека, а его внешнее отношение к форме закона. Загоняя в церковь людей силою, мы не считаем нужным заглядывать во внутренний мир их души, и хорошо, пожалуй, делаем, иначе мы ужаснулись бы при виде того, из каких членов состоит это нами насильственно созданное «тело Христово». Поступая так, мы даже не догадываемся, что совершаем преступление против самого духа христианства, что мы просто кощунствуем над святыней церкви.
Неудивительно после этого, что всякая свежая мысль, всякое живое движение души, хотя бы они исходили из самого чистого источника, нас пугают; ибо мы не знаем, под какой параграф регламента или устава их подвести; а это нам необходимо знать хотя бы, например, на случай отписки, которой от нас может потребовать высшее начальство. Мы считаем себя православными христианами, но потребуйте от нас положительного определения нашего православия (критиковать других мы прекрасно умеем) и увидите, что даже наши специалисты в области богословской науки разойдутся во мнениях по самым основным вопросам учения нашей церкви. И этому не нужно удивляться: сознательное единогласие в области науки достигается лишь путем свободного обмена мыслей; а разве возможен свободный обмен богословской мысли там, где часто даже не умеют делать различия между книгами, имеющими церковно-символическое значение, и учеными диссертациями, представляющими лишь опыт искания истины частным лицом и поэтому требующими, с одной стороны, полной свободы исследования, с другой стороны, полного уважения и терпимости ко всякому мнению, если, конечно, оно явилось плодом добросовестной ученой работы.
В области веры всякое недомыслие должно быть не скрываемо, а разъясняемо, ибо здесь дело касается спасения души, которая не может быть оставлена на произвол судьбы, раз ее заблуждение обнаружено; а силою внешней дисциплины убеждения переменить нельзя. Вот почему бороться с заблуждениями в области веры нужно не цензурою, а наукою. Пастыри церкви, которые относятся к делу иначе, — не добрые пастыри, а наемники: они заперли свое стадо в душный сарай и думают лишь о том, чтобы оно численностью было цело, а что их овцы томятся от голода и жажды, до этого им нет никакого дела. Такой порядок вещей возможен лишь в омертвелом общественном организме, и наша церковь, насколько она есть человеческое общество, действительно омертвела от того, что мы уморили лежащее в ее основании начало соборности.
Свою церковь мы признаем соборною. Соборная она не потому только, что ее учение раскрыто и утверждено вселенскими соборами, а и потому, что начало соборности лежит в самой основе всего ее жизненного строя. Самые вселенские соборы потому и получили в церкви такое решающее значение, что они были проявлением начала соборности. Соборное же начало по своему существу есть начало хоровое, начало общинное, т. е. начало свободного общения людей в интересах живого обмена мыслей и чувств, с целью умственно-нравственного воспитания личности.
Рассматриваемое с этой точки зрения соборное начало в жизни церкви есть то же, что движение крови в живом организме; оно есть жизнь церкви, биение ее пульса. Уморив соборное начало, мы атрофировали самый источник ее жизни; живой организм церкви мы поразили в самое его сердце, мы остановили биение его пульса. Как ни односторонне католическое начало папизма, но оно в католической церкви живо, и последняя обнаруживает ту живучесть, которая не раз соблазняла таких членов нашей церкви, как, например, князь Гагарин, Чаадаев, Владимир Соловьев, Боборыкин и др. Наша же церковь, несмотря на всю широту лежащего в ее основании начала, мертва, ибо это начало не функционирует: мы засушили, мы уморили его. Текущий ручей тотчас же останавливается, как только живой ключ, доставляющий ему воду, перестает бить. Так точно и жизнь нашей церкви остановилась потому, что самый источник этой жизни атрофирован.
Есть, конечно, люди, которые вполне довольны настоящим положением дел, ничего лучшего они не только не хотят, но и представить себе не могут. И это не только совершенно естественно, но и неизбежно, — иначе на чем же держался бы весь нынешний строй нашей жизни? Но горе тому обществу, где смерть считается жизнью, где мертвый труп не умеют отличить от живого тела! И если мы не сознаем своего основного греха и не покаемся в нем, то горе нас несомненно постигнет.
Есть люди, которые указывают даже источник, из которого они ждут беды. Наше общество, истомленное царящею кругом мертвенностью, сделалось до болезненности отзывчивым на все то, что проявляет хоть некоторый проблеск жизни. Неудивительно поэтому, что после последнего старообрядческого московского собора послышались речи, которые раньше могли бы показаться дикими, но которые теперь выслушиваются с большим интересом. Теперь, между прочим, нетрудно встретиться и с вопросом о том, кому принадлежит будущее в истории: официальной ли церкви или расколу? В догматах, говорят, разницы между ними нет; обрядовая же разница, во-первых, не важна, во-вторых, беспристрастная историческая наука в последнее время по обрядовым вопросам высказывается в таком направлении, что трудно сказать, кто тут прав и кто виноват. А между тем проявление соборного начала в старообрядчестве, несомненно показывая его живучесть, свидетельствует в то же время о его верности духу вселенской церкви, чего нельзя сказать о церкви официальной. Итак, у нас, говорят, есть теперь две церкви, одинаково претендующие на православие: одна официальная, затянутая в блестящий мундир, украшенная лентами, орденами, наделенная правами и привилегиями и проявляющая свою веру на официальных молебнах в царские дни, и другая церковь, наряженная в серый зипун, гонимая и преследуемая, но полная живой, искренней веры и верная началу вселенского православия. Которой из них принадлежит будущее, — решить, говорят, нетрудно: мертвая будет погребена, а живая будет жить и развиваться.
Трудно сказать, чего больше в этих речах: злой ли иронии, или зловещего пророчества? Ответ на этот вопрос даст, конечно, история. А теперь пока невольно хочется спросить: ужели же люди, в руках которых находится судьба нашей церкви, всего этого не понимают? Ужели же им не больно, ужели им не стыдно? Итак, чтобы пробудить дремлющие силы церкви, необходимо прежде всего вызвать к жизни лежащее в основании ее начало соборности, которое, проходя снизу вверх, должно проникать всю ее организацию. Простейшей единицей, той первичной клеточкой, из которой должно вырасти все здание церковного организма, должен по-прежнему остаться приход, оживленный путем возбуждения среди его членов более тесного единения на почве сознания единства интересов не только внешних, каковы, например, заботы о благоустроении храма, но и внутренних, каковы заботы о религиозно-нравственном просвещении.
Душою прихода, его естественным средоточием, должен быть, конечно, священник. Ввиду того, что применение в глухой провинции желанной системы выбора прихожанами священников при настоящих условиях встретит серьезные затруднения, пока оставить нынешнюю систему назначения, не устраняя, впрочем, права прихожан рекомендовать на священнические места своих излюбленных кандидатов. Чтобы деятельность священника была целесообразною, вполне отвечающею его высокому назначению, необходимо, во-первых, поднять его умственную и особенно нравственную правоспособность, во-вторых, освободить его от теперешней экономической зависимости от прихожан. Первого можно достигнуть путем одухотворения системы воспитания в духовных школах, второго — путем замены ныне практикуемого способа вознаграждения за требы определенным жалованием, средства для чего могут быть взяты из того же источника. В виду сильного роста нравственной личности, прежняя система вознаграждения, вследствие многих отрицательных ее сторон, должна быть признана безусловно вредною.
Церковные приходы соединяются в более сложные церковно-общественные единицы, границы которых однако же не должны выходить за пределы уезда. Во главе каждой такой единицы стоит епископ. Значительный объем нынешних епархий, обременение епархиальных архиереев массой дел, часто не имеющих ничего общего с их святительским служением, отдаляет архипастырей от их паствы и часто сводит совершенно на нет их воздействие на последнюю. Последнему обстоятельству много способствует и внешняя обстановка епархиальных архиереев, которые скорее напоминают высших сановников в государстве, чем смиренных служителей алтаря и любвеобильных пастырей стада Христова. Перемещение епархиальных архиереев из губернии в уезд, ближе к пастве и в более скромную обстановку, при сокращении подведомственного им круга дел, сильно ослабит многие отрицательные стороны их нынешнего служения и сделает их деятельность более плодотворною. Но чтобы эта деятельность была действительно такою, уездные архиерейские кафедры необходимо замещать не юношами из монашествующего духовенства, которые сами нуждаются в воспитании, а людьми духовно зрелыми, лучше всего из местного духовенства, независимо от того, в состоянии ли они принять монашество (как, например, вдовые священники) или нет. Польза от такой постановки дела до того очевидна, что останавливаться на ее мотивировке было бы совершенно излишне.
Уездные епископии соединяются в губернские или областные архиепископии или митрополии, которые в конце концов объединяются во всероссийском патриархате.
Все архиерейские кафедры, начиная с уездных епископий, оканчивая столичной патриархией, замещаются не по назначению, а по свободному избранию.
Все намеченные церковные округа являются естественными районами для созывания троякого рода соборов: уездных, губернских и столичных или общерусских поместных. На этих соборах, которые должны быть посвящены рассмотрению самых разнообразных вопросов церковного благоустройства, будет рассматриваться и тут же решаться много таких дел, которыми теперь завалены канцелярии консисторий и Св. Синода. Так нанесен будет решительный удар той церковной бюрократии, от которой теперь наша церковь страдает не меньше, чем государство.
Печатается по: «Церковный Вестник», 7 апреля 1905 г. (№ 14).
Настоящая записка прочитана была в частном собрании ревнителей просвещения в духе Православной церкви в Киеве. После обмена мнений собрание признало свое единомыслие с автором во всех основных положениях записки и выразило желание, чтобы текст ее предан был гласности путем напечатания в одном из периодических изданий.