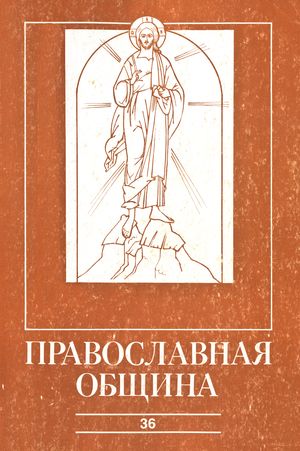Вениамин Блаженный
Не так давно в нашу Высшую школу на Покровке пришли два молодых человека. Они представились как поэты-христиане из Белоруссии, сказали, что хотят познакомиться с сотрудниками журнала «Православная община», поскольку он имеет постоянную поэтическую страничку. Нас пригласили на ежегодный христианский поэтический фестиваль в Минск, а на прощанье подарили несколько своих изданий.
Одна книга бросилась в глаза сразу: на обложке грубыми мазками—крест, выше — ярко-красная славянизированная надпись «Сораспятье»*, еще выше — имя автора: Вениамин Блаженный*. Все три компонента обложки настораживали: и слишком вольное обращение с формами креста, и показавшееся претенциозным название сборника, и псевдоним, который вызывал в памяти ассоциацию скорее не с Василием Блаженным, а c Иваном Бездомным из известного булгаковского романа. Однако лицо на фотографии (на него сейчас смотрите и вы) успокоило — от человека с таким взглядом нельзя ожидать кощунства. Настрой на «вежливое чтение» исчез сразу же после просмотра первых двух страничек, где Арсений Тарковский, Межиров, Кушнер и другие известные поэты и литераторы в высоких и в то же время очень личных тонах благодарили автора.
* Сборник стихов Вениамина Блаженного «Сораспятье» издан в Минске в 1995 г. ООО «ИНТЕКС» и «ОЛЕГРАН» (при поддержке известного музыканта Юрия Шевчука и его друзей)
«Дорогой друг! Вы настоящий поэт. Это не орден. Это слова почти печальные… Настоящий поэт — редкое существо. Одинокое существо. Но он нужен как птица, летящая впереди треугольника… » (Виктор Шкловский ).
А дальше в перечне «хранителей огня» поэзии XX века вновь прозвучало его имя, точнее, фамилия, имеющая к блаженству весьма отдаленное отношение, — Айзенштадт.
Думаю, впрочем, что Вениамин Михайлович Айзенштадт (Блаженный) по-настоящему блажен — из-за несомненной причастности его поэзии началу Нагорной проповеди. Вот какие у него темы: отверженный всеми, осмеянный, воистину «блаженный» отец, вечно больная, страдающая мама, страдающие нищие, кошки, собаки, сам автор, страдающий Бог… Не ищите в двух последних словах ереси патрипассианства. Это всего лишь достигнутое опытным путем утверждение, что Бог — Жив.
Иосифу Бродскому принадлежит афоризм: стихи теперь нужно писать словами, а не фразами. Это абсолютно верно для противопоставления поэзии истинной и поэзии бездуховной (точнее, поэзии, питающейся от духов, а не от Духа). Когда же человек молится Богу, беседует с Ним или даже спорит, как Иов, — об этом можно писать как угодно: словами, фразами, не боясь повторений, узости, неотделанности текста. «Дух дышит, где хочет.»
« … И это обо мне вам сказано сурово:
Он будет бос и наг, и разумом убог,
Но это на него сойдет святое слово,
И горестным перстом его пометит Бог… »
«Горестный перст» — такого не придумаешь. Горечь можно узнать только на вкус. И это дает поэту право на многое, например (может быть, случайно) продолжить… Пушкина. Не так, как Брюсов, писавший вариации «Медного всадника». Стилизуясь, можно учиться, но творить удается лишь тем, кто берется за ту же тему с самого начала (опасность сфальшивить в таком случае сильно возрастает).
Все помнят: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный… » Пушкин открыл эту тему вновь, перелагая, точнее, переосмысляя Горация. Открыть что-то после Горация и Пушкина (да и Державин тоже писал об этом), именно открыть, а не «придумать», совсем уж трудно. Однако…
Оба великих поэта, — один, сказав «Нет, не весь я умру», а другой: «Нет, весь я не умру», — имели ввиду лишь душу, причастную поэзии. Тело поэта («прах») для них особого значения не имеет. В. Блаженный, почти повторяя вначале их строку (он пишет: «И, быть может, умру я не весь…»), заканчивает ее ошеломляюще: «… а всего лишь на треть» (!). Что это за треть?
«Только руки умрут,
только руки — приметы бессилья …»
Значит, пальцы, которые «просятся к перу», и так далее, — смертны. А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — НЕТ.
Значит, вечно будет жить не поэзия, а человек, который в земной жизни хотел только одного, — чтобы его «не отвергла вселенская высь…»
Место рук тогда не останется пустым. Что будет вместо них — вы, наверное, уже догадались. Если нет, — поищите рифму на слово «бессилья». Помня, что «сила Божия в немощи совершается…»
Александр Копировский.
Вениамин Блаженный
* * *
Воробушек, воробушек,
Мороз ударил дробью.
Спасешься ли на веточке —
Иль рухнешь снежным комом?
Воробушек, воробушек,
Твое — мое здоровье
Висит на голой веточке, —
А мир зовется домом.
Давно я стал попутчиком
Бездомной малой твари,
И согреваюсь лучиком,
Когда со мною в паре
Собаки лохмоногие,
Пичужки одинокие…
— Ах, странники убогие,
Вы машете руками!…
Воробушек, воробушек,
Душа играет в теле,
Хоть с веточки на веточку,
А все же мы взлетели.
Я тоже вскинул ноженьки
И взмыл, как птенчик, в небо!
Я тоже видел Боженьку —
Он был как птица-лебедь!
Когда бы мог я, глупенький,
Затмить собою небо!
Когда бы мог я клювиком
Добыть Христова хлеба,
Христова, чудотворного —
И тем, кто жил, как дети,
И тем, кто чуда вздорного
Не ожидал на свете…
БЛАЖЕННЫЙ
Все равно меня Бог в этом мире бездомном отыщет,
Даже если забьют мне в могилу осиновый кол…
Не увидите вы, как Спаситель бредет по кладбищу,
Не увидите, как обнимает могильный Он холм.
_ О, Господь, _ Ты пришел слишком поздно, а кажется _ рано,
Как я ждал Тебя, как истомился в дороге земной…
Понемногу землей заживилась смертельная рана,
Понемногу и сам становлюсь я могильной землей.
Ничего не сберег я, Господь, этой горькою ночью,
Все досталось моей непутевой подруге-беде…
Но в лохмотьях души я сберег Тебе сердца комочек,
Золотишко мое, то, что я утаил от людей.
…Били в душу мою так, что даже на вздох не осталось,
У живых на виду я стоял, и постыл и разут…
Ну а все-таки я утаил для Тебя эту малость,
Золотишко мое, неразменную эту слезу.
…Ах, Господь, ах, дружок, Ты, как я, неприкаянный нищий,
Даже обликом схож и давно уж по-нищему мертв…
Вот и будет вдвоем веселей нам, дружкам, на кладбище,
Там, где крест от слезы — от Твоей, от моей ли — намок.
Вот и будет вдвоем веселее поэту и Богу…
Что за чудо — поэт, что за чудо — замызганный Бог…
На кладбище в ночи обнимаются двое убогих,
Не поймешь по приметам, а кто же тут больше убог.
* * *
Прибежище мое — Дом обреченно-робких,
Где я среди других убогих проживал,
Где прятал под матрац украденные корки
И ночью, в тишине — так долго их жевал.
…Вот эта корка — Бог, ее жуют особо,
Я пересохший рот наполню не слюной,
А вздохом всей души, восторженной до гроба,
Чтобы размякший хлеб и Богом был, и мной.
Чтобы я проглотил Христово Обещанье, —
И вдруг увидел даль и нищую суму,
И Дом перешагнул с котомкой за плечами,
И вышел на простор Служения Ему…
* * *
Опять я нарушил какую-то заповедь Божью,
Иначе бы я не молился вечерней звезде,
Иначе бы мне не пришлось с неприкаянной дрожью
Бродить по безлюдью, скитаться неведомо где.
Опять я в душе не услышал Господнее слово,
Господнее слово меня обошло стороной,
И я в глухоту и в безмолвие слепо закован,
Всевышняя милость сегодня побрезгала мной.
Господь, Твое имя наполнило воздухом детство
И крест Твой вселенский — моих утоление плеч,
И мне никуда от Твоих откровений не деться,
И даже в молчаньи слышна Твоя вещая речь.
* * *
Нет, я не много знал о мире и о Боге,
Я даже из церквей порою был гоним,
И лишь худых собак встречал я на дороге,
Они большой толпой паломничали в Рим.
Тот Рим был за холмом, за полем и за далью,
Какой-то зыбкий свет мерещился вдали,
И тосковал и я звериною печалью
О берегах иной, неведомой земли.
Порою нас в пути сопровождали птицы,
Они летели в даль, как легкие умы,
Казалось, что летят сквозные вереницы
Туда, куда бредем без устали и мы.
И был я приобщен к одной звериной тайне:
Повсюду твой приют и твой родимый дом,
И вечен только путь, и вечно лишь скитанье,
И сирые хвалы на поле под кустом…
Родная матушка утешит боль,
Утешит боль и скажет так: — Сынок,
Уйдем с тобой в небесную юдоль,
Сплетем в лугах Спасителю венок.
Венок прекрасен, а Спаситель сир,
Он кончил с мирозданием игру,
Он покорил Господним словом мир,
Теперь Он зябнет, стоя на ветру.
— Спаситель, наш венок из сорных трав,
Но знаем мы, что он Тебе к лицу,
И Ты, как нищий, праведен и прав,
Угоден Ты и небу, и Творцу.
Стоишь Ты на печальном рубеже,
Отвергнут миром и для всех чужой,
Но это Ты — велел Своей душе
Быть миром, и свободой, и душой.
* * *
Я не просто пришел и уйду,
Я возник из себя не случайно,
Я себя созерцал, как звезду,
А звезда — это Божия тайна.
А звезда — это тайна небес,
Тайна вечности животворящей,
И порой затмевался мой блеск,
А порой разгорался все ярче…
Но я был бы совсем одинок,
Потерял во вселенной дорогу,
Если б мне не сопутствовал Бог,
Возвращал к правоте и истоку.
И я понял, откуда огонь:
Это Кто-то с отвагой святою
Положил мне на сердце ладонь —
И оно запылало звездою…
* * *
И не то, чтобы я высотой заколдован от гроба —
Знаю, мне, как и всем, суждено на земле умереть,
Но и смертью я Господом буду помечен особо
И, быть может, умру я не весь, а всего лишь на треть.
Только руки умрут, только руки — приметы бессилья,
Что с бескрылою долей моею навеки сжились,
Но зато вместо рук из ключиц моих вырастут крылья —
Вот тогда-то меня не отвергнет вселенская высь…
Только высь! Только высь! Я о выси мечтал, как о небе,
Я о небе мечтал, как о Боге, — и вот высота
Заприметила мой одинокий скитальческий жребий, —
Где-то птицею стала земная моя суета…
* * *
На каком языке мне беседовать с Богом?..
Может быть, он знаком только зверям и детям,
Да еще тем худым погорельцам убогим,
Что с постылой сумою бредут на рассвете…
Может быть, только птицам знакомо то слово,
Что Христу-птицелюбу на душу ложится,
И тогда загорается сердце Христово —
И в беззвездной ночи полыхает зарница…
И я помню, что мама порой говорила
Те слова, что ребенку совсем непонятны,
А потом в поднебесьи стыдливо парила,
А я маму просил: — Возвращайся обратно…
* * *
Когда бы так заплакать радостно,
Чтобы слеза моя запела
И, пребывая каплей в радуге,
Светилось маленькое тело.
Чтобы слеза моя горчайшая
Была кому-то исцеленьем,
Была кому-то сладкой чашею
И долгой муки утоленьем.
Когда бы так заплакать бедственно,
Чтобы смешались в этом плаче
Земные вздохи и небесные,
Следы молений и палачеств.
Заплакать с тайною надеждою,
Что Бог услышит эти звуки —
И сыну слабому и грешному
Протянет ласковые руки…