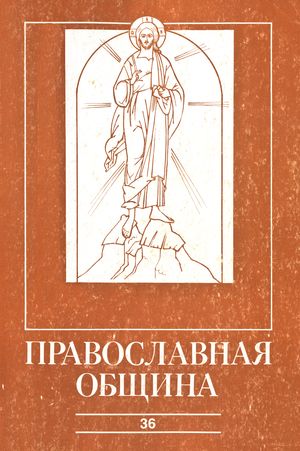Власть и вера
Я постараюсь затронуть тему об отношениях между властью и верой. Вначале я сделаю попытку определить, что означают эти слова. Затем остановлюсь на том, что нового внесло в эти понятия христианство. И наконец, я задам вопрос: как сегодня христианин может критиковать власть и осуществлять ее на практике?
I. Какая власть и какая вера?
Всякий человек уже самим фактом своего существования обладает властью, он есть власть. Всякий человек утверждает себя пред лицом небытия и по отношению к другому человеку. Будучи живым существом, он уже оказывает влияние на свое окружение и на мир. В символическом рассказе об истоках «Книга Бытия» подчеркивает эту власть: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они…» (Быт 1:26). «И сотворил Бог человека по образу Своему…; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: … наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте …» (Быт 1:27–28). Слова, указывающие на верховную власть, следует понимать здесь не в нашем падшем смысле, то есть как насилие, несущее разрушение, а в смысле «евхаристическом», в смысле преображения. В этом даре власти-созидания кроется первородное подобие человека и Бога. Добрая, животворящая сила дарована человеку. Находящееся между аскезой и нежностью, между отдалением и близостью отцовство-материнство, которое позволяет ребенку научиться всему необходимому — и прежде всего языку; власть в обществе, обеспечивающая минимум порядка и мира, позволяющая передачу культуры, памяти и, следовательно, стремление к общему будущему; знание и созидание как украшение и одухотворение мира — все это власть, власть существа, подобная свободному скачку лошади или мощной устойчивости дерева. У человека к этому добавляется еще сознание и язык, язык как инструмент, открывающий сознание, как способность сделать из мира приношение и достояние, диалог людей между собой и с Богом. Мы хорошо знаем это: существует тайна зла как некое таинственное предшествование нашему выбору. Существует грех как первородное и перманентное разрушение еще более первородной любви, связи с Богом. И тогда появляется гордыня самовластво вания над самим собой, и доброе могущество существа частично поглощается жаждой господства над другим и подавления другого. Отдаленный от Бога и, значит, обреченный на смерть человек стремится забыть о зыбкости своего существования, подчиняя себе других. Он нуждается в рабах, чтобы чувствовать себя богом, т.е. видеть себя, раба смерти, бессмертным. В сочинении «О Гра-де Божьем» св.Августин выявил эту диалектическую зависимость между тайным бессилием и насилием, выставляемым напоказ.
Существует не только нужда в рабах, но также и нужда во врагах. Ренэ Жирар показал, как в большей части обществ насилие, подрывающее основы общественной жизни или даже запрещающее ее, отброшено к границам, изгоняется казнью козла отпущения. Человек проецирует свой страх на другого и убивает его, чтобы уничтожить собственный страх.
Власть, бывшая первоначально властью жизни, превращается во власть смерти. И сегодня, в эпоху «атомной монархии» президента Французской республики, определение власти все то же: возможность убить. Власть окружена, таким образом, ореолом сакральнос ти. «Даже простой полицейский вызывает иные чувства, чем обычный мужчина в пиджаке» (или в джинсах), — замечал Николай Бердяев, для которого существование падшей власти, власти насилия и господства, связано с неким массовым гипнозом…
В дохристианском мире обожествление власти осуществлялось открыто. Стоит только вспомнить об апофеозе римского императора, объявлявшегося divus (божеством) и pontifex maximus (верховным жрецом). Власть, которая обожествляет себя и хочет, чтобы ей поклонялись, является властью идолопоклоннической: в этом — постоянное отрицание Библии, от Навуходоносора до апокалиптического Зверя, проходящее и через культ Цезаря, и культ Рима как бога. Начиная с гегелевской концепции, впоследствии упрощенной, о проявлении абсолютного Духа в истории как коллективном становлении, новое время заново открылось для идолопоклонничества, которое полностью воплотилось в тоталитаризме нашего столетия. В то время как для Нового завета, и в первую очередь для св. Павла, демонические силы невидимо, но совершенно реально присутствуют на заднем плане истории. «Власти века сего», о которых упомянуто в (1Кор 2:8), — не только земные владыки, но и те двойственные или даже падшие ангелы, которые превращают идолопоклонническую власть в настоящую одержимость.
Теперь в нашем распоряжении находятся все звенья цепочки:
— сводящее с ума головокружение от смерти и власти убивать;
— нужда в рабах и во врагах;
— осуществление на массах некоего гипноза и магической одержимости властью, представители которой сами являются одержимыми (последнее звено соединяется с первым).
И все это вместе переплетается с доброй силой существа, перехватывая и отклоняя в сторону его энергию, но не уничтожая ее, ибо человек остается созданным по образу Божьему, и сам по себе динамизм этого отклонения от образа вызывает стремление к самообожествлению, к самоидолопоклонству. Власть является, таким образом, одновременно отражением абсолютного и его карикатурой, его демонической узурпацией.
Подобное искажение сосуществует с симметричным ему искажением веры. В архаических обществах, включая, вплоть до последних потрясений, Индию и Китай, вера, повернутая в сторону безличностного духовного мира, цементирует культуры, которые хотят быть неподвижными, застывшими в иерархиях и кастах, и поэтому принижают или изгоняют отщепенцев. История не оплодотворяется, она отрицается, сводится к процессу деградации, где единственной возможностью остаются «реставрации», все более и более проблематичные. Буддистский духовный мир, в частности, представляет собой бездну, поглощающую целые культуры…
Совершенно иным является библейское, семитическое откровение, откровение о личном Боге, Который вплоть до сегодняшнего дня приводит в движение всеобщую историю. До тех пор, пока оно, это откровение, не знает — или забыло — различия между Царством Бога и царством кесаря, оно порождает, через веру, победоносное насилие: либо для того, чтобы обеспечить «избранному народу» «землю обетованную», либо для того, чтобы навязать истину неверным. Ислам и христианство столкнулись на почве этого смешения. Насилие на Западе — или в России — слишком часто сопровождало и поддерживало христианскую миссию.
Обмирщение веры в националистических идеологиях ХХ века еще больше ожесточает это разрушительное насилие. Ибо вера, когда она вырождается в простую принадлежность к чему-либо, когда она таким же образом связывается с желанием упрощения, такая вера — не что иное, как фанатизм. Ее так часто сегодня подвергают сомнению потому, что христианство оставило воспоминания об инквизиции, тоталитарные идеологии — о лагерях массового уничтожения, пробуждение ислама не обходится без агрессивности, правый сионизм проявляет себя слепо воинствен ным, большую опасность, и именно в православном мире, представляет собой религиозный национализм.
II. Христова революция
Вера, о которой я буду сейчас говорить, это вера евангельская, вера собственно христианская. Это личное присоединение к личному прикровенно-приоткрытому присутствию тайного, недоступного Бога, Который открывается, дарует Себя, делает Себя участвующим в Иисусе Христе, не теряя при этом Своей таинствен ности. Евангельское учение, отделяя Царство Бога от царства кесаря, открывает пространство свободы духа, свободы индивидуума. Царство кесаря теряет свою сакральность, ограничивается и в то же время получает другую ориентацию. Оно является законным, когда вносит определенный порядок, но оно незаконно, когда требует себе поклонения, когда представляет себя как закрытую, псевдобожественную целостность. Что же касается Царства Бога, то оно «не от мира сего», оно не выражает себя в соответствии с понятиями мира сего, в соответствии с его властью смерти. Несмотря на это, оно таинственно, сакраментально преобразовывает сердца (то есть, выражаясь по-библейски, умы), оно оплодотворяет мир как создание Божье, оно протестует против него как сплетения иллюзий, лжи и гипноза и подрывает его.
По Евангелию, истинной властью является власть Бога распятого: власть, которая хочет изменения другого вплоть до того, что позволяет убить себя, чтобы даровать другому воскресение. Так абсолютная власть, власть Бога, «Пантократора», отождествляется с абсолютным даром себя, с жертвой, которая дает людям жизнь и полагает начало их свободе. Воплощенный Бог — это Тот, Который «полагает жизнь Свою за друзей Своих» и молится за Своих палачей.
Власть Бога означает власть Любви. Благодаря Своей «безумной Любви» Тот, Который есть полнота Жизни, становится для нас жизнью в самом сердце у смерти. «Имею власть отдать ее (Мою жизнь) и власть имею опять принять ее» говорит Иисус, — (Ин 10: 18). Этому божественному парадоксу, который трансцендирует противоречие падшего творения, противоречие между жизнью и смертью, между отданием себя и самоутверждением, этому парадоксу, который и есть парадокс любви, такой слабой в своей власти, такой властной в своей слабости, мы находим великолепное, построенное на резком контрасте выражение: «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… Ибо немощное Божие сильнее человеков… И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное…» (1Кор1:21–27).
«Кеносис» воплощенного Бога, разумеется, добровольный, раскрывает самую жизнь Троицы. Когда Иоанн в Прологе говорит нам о Слове pros ton Theon, «бывшем у Бога», он показывает нам Бога, Который открывается, Бога, где Один (с большой буквы) не существует без Другого (с большой буквы), в радостной жертве каждого для того, чтобы другой был. Это Бог, Который открывается, Бог, Который дарует Себя, и тот факт, что власть Бога есть власть Любви, включает в себя добровольное ограничение, которым Бог обязывает Себя, чтобы дать человеку (и ангелу) пространство Свободы. Или лучше даже сказать, что именно в этом ограничении коренится истинное всемогущество, именно в нем выражается тайна Бога как дара Самого Себя, смирение, уважение к другому вплоть до креста: Он — «Агнец, закланный от создания мира» (Откр 13: 8).
Вот почему тайна слабости Божьей — это тайна Его истинного всемогущества, это тайна, освещенная жизнью, это страсти и крест Иисусовы, тайна, сокрытая в глубинах Церкви, в распятом бытии святых.
Подвергаясь оскорблениям, которые Ему пришлось вынести, Иисус был, по всей вероятности, в полноте Своей человечности, взятой в контексте определенного народа и эпохи, завороженной воинствующим мессианизмом, искушаем употребить власть через насилие. Таков был последний соблазн, который Он отверг в пустыне. В Галилее Он был окружен мощным народным движением, которое хотело «взять Его и сделать царем» (Ин 6:15). Именно тогда Он принял решение сосредоточиться на «малом стаде» Своих учеников и перенести борьбу в самое сердце власти — в Иерусалим, местопребывание еврейской религиозной власти, которая использовала Бога, чтобы служить человеку, и римской политической власти, которая использовала человека, чтобы сделаться богом. И вот: Крест, Воскресение, Пятидесятница — излияние благодати как силы, полностью доброй, животворящей, по ту сторону противоречивости падшего мира, в котором жизнь никогда не идет без смерти, любовь без ненависти, сила без насилия. Во Христе, на ветру Духа, мы призваны к участию в этой силе, в этой жертвенной и спасительной власти. «А тем, которые приняли Его,… дал власть быть чадами Божиими» (Ин 1:12). Фраза «если что можешь…» (Мк 9:22), произнесенная потерявшим надежду отцом, вызывает ответ: «Все возможно верующему». Ни человек без Бога, ни Бог без человека: во Христе они без разделения, или смешения. Вот почему на иоанновское «Без Меня не можете делать ничего» Христа (15:5) отвечает ликующее утверждение Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил 4:13). «И если чего попросите… во имя Мое, то сделаю» (Ин 14:13). «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно,… ничего не будет невозможного для вас» (Мф 17:20).
На смену диалектике бессилия и насилия приходит диалектика слабости и силы: во Христе человек обретает свое предназначение тварного творца, устремленного к проявлениям царства, тайно уже присутствующего. «Сила Моя совершается в немощи» (2Кор 12:9). Человек, отождествляющий себя с Распятым, получает силу Воскресшего: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор 12:10). Согласно традиции anawim, в особенности у Амоса, у Иеремии, во многих псалмах, «кроткие», «бедные», «смиренные» Ветхого Завета называются «блаженными» и в Блаженствах Нового, ибо они устраивают в себе место Богу, ибо они предоставляют пространство Духу Святому. Вот почему Мария в Своей Песне благодарения прославляет «смиренных», то есть тех, которые опустошили себя для Бога, тех, которые открыты для Бога и которых Он возвышает, в то же время свергая с трона «сильных», слишком тяжелых и слишком наполненных, слишком богатых, в которых Он не смог найти Себе места.
Христова власть, власть веры и смирения, проявляет себя как служение. Важнейшим текстом здесь является фрагмент из (Лк22:25–27): «Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий».
Власть служащего становится, в этимологическом значении слова, авторитетом: auctoritas происходит от глагола augere, который означает делать большим, увеличивать. Это значит стремиться подчинить себя всякой жизни, чтобы всякую жизнь увеличить.
Победа Христова над смертью трансформирует в глубине нас страх в благодарность. Отцы Церкви, в особенности аскеты, выделяли две «страсти-матери»: стяжание и гордыню, эти производные падшей власти, а если пойти еще глубже, то «скрываемый страх смерти». Если мы в действительности воскресли с Воскресшим, если Смерть уже позади нас, погребенная в крещальных водах, тогда мы больше не нуждаемся ни в рабах, ни во врагах, чтобы проецировать на них наш страх и наше желание быть Богом: в смирении мы становимся Им, во Христе, то есть получаем способность любить.
Так предстает перед нами вся важность евангельского предписания «любить врагов наших». «Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благослов ляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас… Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд…» (Лк 6: 27–28, 35–36).
Речь идет о том, чтобы разорвать адский круг насилия и мести, который, в свою очередь, порождает новое насилие, еще более жесткое, и так до бесконечности. Иисус не остановился на этом пути, Он сделал нас способными идти по нему, опираясь на Его Крест, Его Воскресение и дар Духа. И действительно, благодатью Креста даже поражение, даже смерть могут стать зарождением Царства.
III. Осуществлять ли власть веры?
Сегодня христиане повсюду в меньшинстве и не могут претендовать на управление обществом. Идеал, редко бывший осуществленным в истории, «святого князя», «христианского монарха», который монополизировал бы царское священство народа Божьего, принимал бы Церковь как внутреннее ограничение и вдохновение своей власти и, наконец, что самое главное, при необходимо сти «отдавал бы жизнь за друзей своих», — этот идеал принадлежит к отжившей символике. Или, лучше сказать, он должен быть внутренне углублен, осуществлен каждым христианином, предназначение которого быть «царем, священником и пророком». Я намечу здесь три пути служения и добровольного обязательства.
Самобытный образ жизни в евхаристических общинах
Причащаясь «дарованного» Тела Христова, Его «пролитой» Крови, христиане должны причащаться Его требованиям и Его пророческому примеру. С этого момента отказ от господства становится отличительным знаком их принадлежности ко Христу. Лука помещает в самый центр евхаристической трапезы спор между учениками о том, «кто самый больший». Ибо целью евхаристической трапезы было как раз внедрить среди учеников новую практику, противостоящую этой игре самолюбий. Иисус вовсе не отвергает величия, всякий мазохизм был бы излишним. Но «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф 20: 26). Настоящее величие не в том, чтобы властвовать, а в том, чтобы служить.
В настоящее время, в нашу эпоху, в скроенной по размеру человека Западной Европе, позволяющей подлинное сосущество вание, евхаристическая община должна свидетельствовать, точнее, пытаться свидетельствовать во всех областях об этом духе служения, об этом отказе от господства.
Это подразумевает особый тип внутренних отношений в недрах организации, имеющей церковный характер. Власть, придаваемая особым функциям служения, в такой же степени представляет и власть Христа, которая есть власть Любви. «Пасите Божие стадо, какое у вас,… не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Пет 5: 1–3). В причастии, таким образом, происходит самоопределение отцовства, жертвенного и освобожда ющего, способного принудить без унижения для того, чтобы увеличить Дух, распространяя Его, распространяя Жизнь. Знаком для мира, иной моделью является: «Между вами да не будет так» (Мф 20: 26).
Связанной приношением евхаристической общине следовало бы пройти через суетность владения, через отчуждение желания иметь, через умножение потребностей: «Кто дарует нам общины, в которых в отречении (конкретно выражающемся в отказе от погони за благами и за престиж, в упрощении и воздержанности быта) будет лучиться радость встречи, встречи Бога и — и в этом знак и залог — встречи братьев?.. Это радость будет для всех тех, кто злоупотребляет обманными обещаниями общества, основанного на владении, вопросом о них самих и о подлинности их устремлений, призывом к освободительной метанойе — обращению» (Costi Bendaly. Le temoignage de la communaut eucharistique, dans «Contacts», ler trim. 1987, p. 35).
Такой образ жизни требует от каждого аскезы отречения и симпатии в одно и то же время. А это предполагает присутствие, и не на периферии, а в самом сердце Церкви, отрешенных, монахов, которые своими добровольными бедностью и смирением позволяют проходить доброй силе благодати и дают верным их духовных отцов или матерей, свидетельствующих о материнском отцовстве Бога и передающих Его Дыхание. Отрешенные христиане предваряют «мир наоборот», о котором говорят Блаженства.
Важно, чтобы всякая христианская община, приход, движение, монастырь были бы местами скромного, но эффективного перераспределения в пользу наиболее оставленных, вне зависимости от того, верующие они или неверующие, в рамках деревни, квартала, в рамках связи с особенно нуждающимся районом стран Восточной Европы или третьего мира. В сегодняшней России инициативы такого рода особенно многочисленны. И это, без сомнения, то, что труднее всего для наших небольших общин диаспоры, ибо размеры несопоставимы, и поэтому экуменическое сотрудничество здесь часто необходимо. Как бы там ни было, мы должны быть изобретательными, мы должны открыть глаза на растущую нищету и давать, пусть даже в малых размерах. Нам необходимо, и некоторые уже делают это, обрести связь между «алтарной жертвой» и «жертвой братской», о которой говорил святой Иоанн Златоуст. Речь не идет о том, чтобы заменить сакраментальное социальным, что превратило бы христианство в некую сентиментальную разновидность гуманизма, а о том, чтобы продемонстрировать сакраментальный характер социального, диаконии, и создать в церковной общине инстинкт солидарности, такой сильный у большинства наших современников, особенно у молодежи…
Определить место политика, ограничивать его и вдохновлять
Определить место политика означает признать его необходимость и его относительность в одно и то же время. Тоталитарная логика отождествляла власть и абсолютное, власть и все то знание, которое отрицает всякую автономию отдельного политика. Либеральная логика ведет за собой, de facto, его почти полное отождествление с деньгами. Отсюда такое количество «афер», осаждающих наши общества и дисквалифицирующих политических деятелей. Вместо того, чтобы брать на вооружение миф о политике как об уступке, о власти как о неизбежно подавляющем начале, мы должны переделать политика, основать новую политическую власть в соответствии с ее подлинным замыслом: гарантия свободы и препятствие разрушительному насилию. Владимир Соловьев утверждал, что роль власти не в трансформировании общества в рай, а в недопущении, чтобы оно стало адом. Я хотел бы привести здесь высказывание двух французских современных мыслителей-христиан. Первый из них — экономист Франсуа Перру, второй — философ Клод Брюэр. Франсуа Перру в книге «Власть и экономика» писал: «Политика начинается там, где прекращается насилие». Государство должно предохранять в данных исторических условиях жизнь и свободу всякого человека и провозглашать политическую власть «на расстоянии от интересов, способной направлять их и/или решать их споры». Этому арбитру доверены цели и средства, которые просто невозможно поставить в счет «и, следовательно, на них нет рынка. Именно он, в своей сфере, предохраняет людей от вторжения рынка, ставит их в благоприятные условия для сопротивления »меркантилизации" человеческого существа" (Pouvoir et Economie. 2eme ed. Paris, 1983, p. 128).
Клод Брюэр в «Политическом разуме» определял роль политического деятеля через заклинание насилия, поскольку он дает право и силу правосудию и свободе. «Желать упразднения всех форм политической власти — это значит презирать свободу, водворять насилие, обеспечивать его царство». Политик, следовательно, не определяет себя через то, что он есть, но через то, что он соединяет и охраняет. Политическая власть не должна претендовать на абсолютное знание, не должна создавать религию и профсоюзы, она должна обеспечить свободу сознания, религиозной практики и осуществления профсоюзных прав. Целью всеобщего голосования не является подавление меньшинства. Всякое меньшинство должно охраняться властью, всякая законная оппозиция не только должна быть узаконена, но для нее должны быть созданы благоприятные условия, чтобы позволить существование критики и диалога. Так уточняется идеал, который нужно постоянно защищать, постоянно пересматривать, идеал правового государства , где, как говорил Брюэр, «закон и только закон позволяет власти быть одновременно тем, что вовне и внутри общества» (La raison politique. Paris, 1972, lere partie, chap.1 et 2), в котором она призвана разрешать споры и без свободного согласия которого она была бы ничем.
Определить место власти означает, следовательно, ограничивать ее и вдохновлять в одно и то же время. Ее «внешней» границей (по поводу которой можно говорить о противовласти — контрвласти) может являться лишь сильное гражданское общество, в котором растет количество независимых общин и ассоциаций, в котором семья поддерживается и предохраняется. Ее «внутренней» границей должна была бы в таком случае стать этика, засвидетельствованная одной или многими светоносными элитами, не обладающими материальной властью, зато сильными своим подлинным «авторитетом». В период, когда рушатся идеологии и мифы, есть темы, которые звучат еще с большей силой: тема неизменной личности, того краеугольного камня, который невозможно ни объективировать, ни ввести в какую бы то ни было концепцию и к которому нужно применять множество различных подходов. Затем тема, скажем, homo oeconomicus (человека экономического), но и тема homo ludens (человека играющего) и homo adorans (человека поклоняющегося). Тут же появившаяся со времени исчезновения крестьянской цивилизации тема уже сознательного, добровольного влечения к природе. Таковы теперь наши ценности и наши задачи: абсолютное уважение личности и сложных междуличностных отношений, каковыми являются языки, нации, культуры; новый брачный договор с землей; зарождение европейской гуманности и гуманности планетной, не в стирании, но в сохранении различий.
Именно здесь, как мы уже поняли, играет свою неизменную роль христианин как «часовой». Власть веры проявляется при этом и как противовес власти (контрвласть), но и как ее вдохновитель ница, и тогда власть веры становится пророчеством. Церковь, или «совет церквей» (это зависит от времени и от места), призвана к тому, чтобы стать, на свой риск, со смирением и твердостью совестью общества. Совестью, которая предлагает, но не навязывает, с риском явной маргинализации или даже тайного или явного преследования. Только лишь христианская совесть может вызывать, без конца оживлять животворящее напряжение между силой тяжести социального вещества и евангельским видением власти как служения. Руки горшечника должны быть в глине, он должен обладать умением размешивать глину, но никогда он не вылепит ничего стоящего без снисходящего свыше вдохновения.
Вот почему происходящие в настоящее время поиски этики, способной ограничить и направить политика, как никогда требуют свидетельства и силы нашей веры. Вероятно, лишь признанная или предчувствованная благодать позволяет свободно и бескорыстно раскрыться по отношению к другому, отличному от меня, благодать и интуиция тайны вещей, которые неожиданно превратились в реальность. Интуиция духовная или почти поэтическая, которая убеждает каждого встать на путь преображения и причастия. Благодать не приказывает, не организует, она вдохновляет. Речь не идет о некой технике ненасилия, которая может быть морально агрессивной и фарисейской, речь идет о том, чтобы придать действенность доброй силе, пришедшей извне. Для Ганди, например, этого индуса, потрясенного Евангелием, пост не являлся совсем или почти не являлся средством давления (тем, чем он стал сегодня). Он был для него молитвенным состоянием, временем, когда душа и тело безмолвствуют, чтобы позволить Богу действовать в истории. Вот почему так важно присутствие маленьких православных монастырских общин в Западной Европе.
Евангелизация культуры
Власть, смиренная власть веры, проходя через миллионы душ, питает историю вечности, без конца сталкивая историю Ирода и Пилата с антиисторией Блаженств, «зверочеловечество» с «Богочеловечеством». Терпение, страдание, переносимое в уверенности, что «мир сей» не есть Божий мир, видимая или невидимая творческая любовь, которая выпускает во мрак снопы искр Восьмого Дня, дня Царства, малозаметные добрые и бескорыстные поступки стольких безвестных праведников неустанно создают заново ткань бытия, разорванную силами небытия. Истинная история разыгрывается на границе видимого и невидимого. Наше знание о ней очень неполное. Ангелы света и «князь мира сего» вмешиваются в нее, молитва безвестного ребенка оказывает на нее влияние. А также смехотворная на первый взгляд самоотвержен ность Матрены, о которой рассказал Солженицын, напоминая, что она принадлежала к тем самым праведникам, без которых ничего не держалось бы — ни их деревня, ни вся земля.
Глубоко сокровенная в безмолвии созерцательность и любое молитвенное состояние, состояние открытости по отношению к тайне, провоцируют в истории извержения вечности и позволяют созидать жизнь и красоту, которые, в свою очередь, будят сердца. «Почва истории — вулканическая», — говорил Бердяев. Лава периодически извергается и порождает в культуре образы, символы, тайные themata (темы), в которых миллионы душ черпают то, что Тиллих называл «смелостью быть». Франциск Ассизский вызвал к жизни Чимабуе и самое первое Возрождение, в котором человек утверждал себя, не отделяя себя от божественного; Сергий Радонежский вызвал к жизни Рублева, и мы не устаем восхищаться иконой Троицы (я сказал бы — Рублева и Тарковского).
Представляется, что сегодня могущество человека объективи руется вне его, то есть против него. Это происходит в научных знаниях и технических изобретениях, которые стремятся к развитию в соответствии со своим собственным динамизмом, так что человек не управляет больше своим могуществом, а наоборот, кажется, могущество управляет им. Отсюда угроза, которую Мишель Анри называет «варварством». Власть веры вызовет к жизни новый тип человека, способного укротить эти силы, способного проявить силу по отношению к своему собственному могуществу. Для этого нужна в чистом виде сила духа, оживотворяемая Духом Святым, нужно в движении веры и созерцания создать истинный стиль смирения и мощной независимости. Новая святость, берущая начало в аскетической отрешенности и космическом преображении, своим примером, а также таинственным переливанием себя приведет к постепенному изменению ментальности, вызовет к жизни культуру, которая будет служить связующим звеном между Евангелием и обществом, между Евангелием и политикой.
Речь в конечном итоге не идет об отрицании насилия, а о том, чтобы направить его в определенное русло и преобразить его, как сделала церковь позднего Средневековья, превратив дикого воина в рыцаря, жестокого вождя-деспота в «святого князя». Для этого необходимы аскеза и риск, «внутренняя брань, более тяжелая, чем борьба между людьми», желание служить и создавать, требование осветить жизнь той красотой, которая «производит всякое причастие», как говорил об этом Дионисий Ареопагит.
И если власти смерти, несмотря ни на что, удается в отдельные моменты и в некоторых местах замуровывать историю, сводить ее к некоему виду зоологии, то надлежит размуровывать ее через мученичество, которое составляет первый и фундаментальный мистический опыт христианства. В мученичестве власть, которая хочет, чтобы ей поклонялись, признается законной, но ее тоталитарные претензии отвергаются; мученичество также позволяет вопреки самому себе парадоксальное свидетельство смерти-вос кресения, которое заставляло древних римлян говорить, что христиане — это «те, которые не боятся смерти».
Существует много форм «мученичества» — незаметного, скрытого, ежедневного. Главное — быть крещеным, тем, у которого Смерть (с большой буквы) позади, позади, а не впереди и не в нем, быть тем, который больше не дает смерть, не передает ее, а дает и передает Жизнь (тоже с большой буквы), быть живым, который животворит даже и именно тогда, когда он раздавлен под тяжестью креста, даже и именно тогда, когда он больше ничего не понимает, а укрывается у подножия креста. Живой, который животворит, — это, вероятно, и есть власть веры.