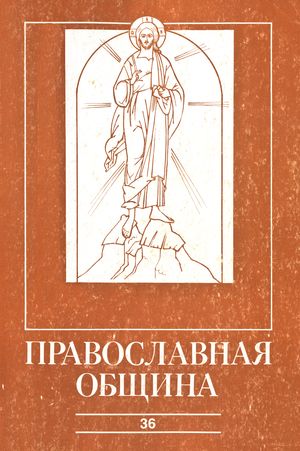Левитство и пророчество как типы пастырствования
В задачу настоящей статьи не входит историческое изучение взаимных отношений этих институтов Ветхого Завета, — левитского и пророческого. Это относилось бы к предмету Библейской археологии и Истории. Поэтому систематическая экзегеза соответствующих текстов книг законоучительных и пророческих также не имеет касательства к моей теме. Я буду обращаться к этим текстам только постольку, поскольку они смогут послужить подтверждению основных мыслей моей темы, осветить светом Библии то, что является особенно важным в этих двух понятиях. Следует помнить, что ни одно место этой статьи и ни одно упоминание имени левитского не должно быть принято как какое бы то ни было умаление этого священного института Ветхого Завета. Забывать не должно: в Ветхом Завете левитство было Божествен ным учреждением, и низвести его с этой высоты было бы дерзновенным покушением на святыню.
Необходимо в связи с этим сделать еще одну оговорку в пояснение нашей темы. Выражение «левитство» и «пророчество» в том смысле и в той взаимной связи, в которых я их употребляю, не суть мои. Я их заимствую у одного из оригинальнейших умов России XIX века, авторитетного в свое время знатока церковных дел, епископа Порфирия Успенского. В его понимании эти выражения имеют совершенно особое значение. Они взяты не столько в буквальном, библейско-историческом объеме, как институт служения Богу, сколько как особый «terminus technicus» (технический термин (лат.)) для характеристики известного настроения, определенной тональности в этом служении. Говоря «левит» или «пророк», я поэтому подразумеваю, так сказать, стиль пастырствования. Левитство и сопоставляемое с ним пророчество суть в данном случае известные категории духовности. Это не институты религиозного обихода, а религиозно-психологические типы.
В Пастырском Богословии говорится о путях пастырствования. Мы различаем, например, путь сельского священника, городского, путь миссионера, учителя духовной школы или законоучителя и т.д. Суть ли «левитство» и «пророчество» особые пути священнического служения? Нет. Левитство и пророчество как стили пастырского служения могут проявить себя в каждом из помянутых путей. — Кроме того, в Пасторологии различают доброе и злое пастырство. Это — качества пастырского служения. Является вопрос, не есть ли «левит» и плохой пастырь синонимами? Тоже нет. Левит может действовать из очень глубоких, искренних и чистых мотивов. Под левитом мы не подразумеваем только злого, нерадивого, сребролюбивого или недостойного пастыря. Левит по намерениям своим может быть вовсе не дурным, но стиль его служения будет все же синонимом некоторой духовной отсталости.
Вот теперь уместно поставить вопрос: каковы же эти типы пастырствования? В чем их существенные отличия?
Левитство в этом специальном значении есть священство кастовое, бытовое, формальное, узко-национальное, мертвенно -неподвижное, не-творческое.
Когда-то в Ветхом Завете священство Моисеева закона было наследственным и сословным. Тому были достаточно уважитель ные исторические основания.
Проповедь и дело Богочеловека принесло с собой иное. Насадился новый Виноград. Слово Божие и Истина не остались только собственностью одного народа, но проповедываются всему миру и всей твари. Сам Богочеловек-Пастыреначальник показал пример и открыл новый путь в священство. Не от влиятельных колен и родов избирает Он свое «малое стадо», и не по формальному признаку призывает Он в апостольство. Полагается начало новому, не кастовому священству. Апостолы, святители, отцы и учители Христианства из всех общественных сословий входят в Церковь к благовестию Вечной Жизни. Сапожник и пастух становятся епископом, изощренный философ и адвокат — апологетом христианства, простые миряне — хранителями святыни, носителями Истины. Недаром поэтому слова апостола Петра о том, что христиане — «род избранный, царское священство, народ святой, люди, взятые в удел», так часто и много повторялись и комментировались святыми отцами. Это всеобщее священство христиан, — не иерархическое, конечно, а духовное, — помнилось долго в первые века жизни Церкви. Поэтому-то кастовая замкнутость совершенно и невозможна в Христианстве.
Еп.Порфирий говорит: «…святые отцы и учители церкви, Дионисий Ареопагит, Игнатий Богоносец, Тертуллиан, Златоуст, Василий Великий, Григорий и Августин не от отцов своих наследовали алтари и кафедры. Николай чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Лукиан пресвитер и мученик не учились в таких академиях, каковы наши. И в русской Церкви до учреждения семинарий были же священники и архиереи» («Книга бытия моего», т. III, стр. 95).
И пока священство в силу исторических условий не замкнулось в касту, оно было и свободней и живей. Замкнувшись же, оно приобрело и все больше увеличивало свои прирожденные недостатки, оно суживало свой путь, отдаляло себя от паствы, невольно превращалось в клерикальное установление и присваивало себе исключительные прерогативы считать себя Церковью по преимуществу.
Из этого родился ошибочный взгляд на священное служение не как на «образец добродетели, — по слову св. Григория Богослова, — а как на средство к пропитанию; не как на служение, подлежащее ответственности, но начальство, не дающее отчета» (Слово 3-е. Собрание творений. Москва, 1889, ч. I, стр. 16) Пастыри — левиты по духу — ревностно охраняют свою кастовую замкнутость и не терпят нарождения священства не их касты.
Характерной чертой «левитства» служит также и его бытовой отпечаток. Он создался и вырос в этой кастовой обстановке. Нам, русским, особенно близок и знаком этот бытовой налет. Крепкая, неподвижная вековая установка русской общественной жизни способствовала бытовому укладу всюду, во всех слоях общества. В священническую среду он особенно глубоко проник и укрепился. Все мы помним, или во всяком случае понаслышке знаем этот густой, очень ароматный, круто замешанный быт нашего духовенства. Кому не милы те ушедшие в прошлое и невозвратимые картины, нигде ни на Западе, ни у единоверных братьев на Балканах и на Ближнем Востоке неизвестные?.. Он ушел, этот милый сердцу, спокойный бытовой уклад. О нем можно жалеть, его можно вспоминать, но искусственно воссоздавать его как якобы необходимый атрибут священнической жизни и деятельности нельзя и ненужно. Быт свидетельствует о степени воплощения и врастания в жизнь известного духа, но быт, искусствен но создаваемый, не может, не в силах воссоздать утерянный дух. Быт поэтому бесплоден: он боится новизны и способен усыпить настоящий порыв и заменить сущность формой.
Вот поэтому-то полагать необходимым свойством священнического служения какой бы то ни было узко-бытовой уклад — значит погрешить против самой сущности евангельского понимания пастырства, значит смешать пастырство живое с левитством формальным.
Быт личный создался в рамках общесоциального быта и крепко с ним связан. И вот тут еще одна характерная черточка в левитстве. Это — подчинение определенным формам жизни, может быть, прислуживание известному строю, конформизм с известным социальным злом. Много горьких слов обличения сказано было еще пророками в Ветхом Завете против этой слабости пастырей. В противоположность этому наиболее красочные примеры не примирившихся с неправдой известного общественного порядка мы имеем, конечно, в лице «вскормленного огнем и спеленутого пламенем» пророка, «человека косматого и кожаным поясом подпоясанного» — Ильи Фесвитянина и Предтечи Иоанна. Такими же были и равнодушные к земным благам и почестям этого мира поколения первых наследников апостолов; те, о которых памятник древне-христианских времен говорит: «…они населяют свои отечества, но как пришельцы; во всем участвуют как граждане, но всюду остаются как чужестранцы; всякая чужбина — им отечество, и всякое отечество — чужбина; на земле живут, но на небесах гражданству ют; подчиняются определенным законам, но своими жизнями побеждают эти законы» (Письмо к Диогнету, V, 5, 10). Это были те, кого Златоуст назвал «ангельским обществом» и «новорожденными» (Беседа 7 на Деяния апостольские. Собр. творений в русском переводе, том IX, стр. 73), настолько в них еще сохранялась чистота и огненность евангельского настроения. Христианская церковь дала великие и прекрасные примеры борьбы своих пастырей против социального зла и тех форм государственной жизни, которые в силу своей власти и мощи покушались на неприкосновенную святыню Церкви. Дерзновенные защитники Церкви от этих покушений украсили своими именами мартиролог церковный. От дней апостольских до наших, они служат нам утешением и примером: Амвросий, Златоуст, Филипп московский, Арсений Мациевич, митр. Вениамин и др.
Но в то же время множество других служителей алтаря, поставивших себя в службу строю и преклонившихся перед социальной неправдой, свидетельствуют о печальной слабости левитства. У многих неприятелей Церкви создается часто такая аберрация: нынешнее христианство поставило-де себя на службу известным формам государственного управления, капиталистическому строю, Церковь как бы заключила союз с богатеями. Забыта нищета апостольских времен, непривилегированность первохристианской Церкви, «святая бедность» Франциска Ассизского и преподобного Сергия. У наших светских писателей немало найдем укоризны и упреков этому недостатку. И нельзя не признать правоты их, а возразить им совесть пастырская не позволяет ничего.
Интересно ведь и то, что эта слабая черта может очень тонко и незаметно совместиться с прекрасными и истинно пастырскими добродетелями.
Великие и замечательные аскеты, личному монашескому, духовническому и пастырскому пути которых никто не сможет найти ни одного упрека, в то же время оправдывали многое в социально несовершенном строе, извиняли недопустимое, канонизировали зло и тем служили этой неправде. Личная аскетическая жизнь нередко совмещалась с прислуживанием или «политичным» отношением к власти общественного зла. Это омрачало чистоту пастырского пути, искривляло его, подчиняло Царство Божие царству кесаря.
По святым отцам, священническое служение несравненно выше царского (Златоуст, 3-е «Слово о священстве») —"Неизмеримое до необъятности достоинство священства", — говорят они (Ефрем Сирин, «Слово о священстве». Творения, т. II, стр. 605), — а в исторической действительности оно к великому прискорбию нередко принижалось до уровня прислуживания низменным интересам полицейской службы. Часто также семитское священство в своей примиренности с формами государственного быта для поддержки своего шатающегося авторитета искало защиты у этой государственности и тем угождало ей, но еще больше унижало свой авторитет. Так поступают, например, те пастыри-миссионеры, члены Миссионерского съезда, которые обращаются к поддержке мирской власти против сектантов и раскольников (Архиеп. Антоний Храповицкий, Собр. сочин., т. II, стр. 303). Пастырь, апостольствующий при помощи карательных мер полиции, сводит свое апостольство к нулю и оскверняет Евангелие. Пастырь, угождающий строю, каков бы он ни был и апологирующий социальную неправду, уже не слуга Христов. «У людей ли я ищу благоволения, или у Бога. Людям ли угождать стараюсь. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым»,—говорит ап.Павел (Гал. I,10; ср. и IСол. II,4–6).
Из самозамкнутого и окостеневающего ветхозаветного левитского института родился дух книжнического «предания старец», а оттуда и талмудизм. И напрасно было бы думать, что талмудизм есть достояние только еврейского народа. Увы! он вошел и широко распространился и в христианской религиозной психологии. Тут следует напомнить, что ни против какого греха, недостатка и слабости человеческой Христос Спаситель не восставал так горячо и остро и ни на что не смотрел с гневом, как именно на талмудизм, на книжническо-законническое отношение к Богу. Самые низкие падения и искривления души человеческой находили оправдание, но талмудистское окостенение Живой Истины находило только горький упрек и жестокое обличение. Почему? Потому что это знак рабства, духовной трусости, маловерия. Талмудист верует, что спасает форма, длина молитв, то или иное зелье, количество маслин, смокв и фиников, а не милость Божия. Этим-то именно и убивается жизнь Духа. Истинное поклонение Духу в духе и истине обращается в мертвое, формальное служение, в обрядоверие, в уставщичество. И это-то, может быть, одна из наиболее страшных особенностей левитского стиля.
Как во всякой религиозной жизни, так и в христианстве, есть элементы и от вечности, и от временного. Смешение этих двух понятий, канонизация преходящих форм, провозглашение старо-древнего за вечное и потому неизменное свидетельствует именно об этом левитском уклоне, о христианском талмудизме. В жизни всякой религии, пока еще, разумеется, она окончательно не замирала, было и будет столкновение и борьба двух течений и настроений: охранительного и творческого, статического и динамического, старообрядчески-левитского и дерзновенно-пророческого.
В христианстве этот талмудизм есть отголосок того иудаистского течения в церкви, которое еще в I в. выявилось и как бы судорожно цеплялось за уходящий все дальше в прошлое ветхозаветный закон. Борьба течений иудаистского, узко-законнического с вселенским, широким, творческим не закончилась на апостольском соборе 51 года. Она всегда была налицо в Церкви; всегда были пастыри и миряне, которые искали спасение в форме, в букве, в мелочном предписании устава, относится ли это к посту или к молитве или к чему-либо другому. Всегда было желание подменить суть Евангелия, заковать дух, вознести жертву над милостью, отцедить комара устава и поглотить верблюда.
Все, что сейчас говорится, не есть, конечно, ни в малейшей мере покушение на святость традиций и на наследие старины, ибо христианство живое, не доктринерское, не кабинетное, живо только в Церкви, только там, где благодать, там, где хранение предания. Без верности преданию нет целости христианства. Поэтому-то, кстати сказать, так безвкусно и в корне неправильно желание вернуться к абсолютному первохристианству, отбросив весь вековой и живой опыт Церкви. «Back to Christ»- значит отвержение всей традиции Церкви. Это значит расточение всех богатств церковной ризницы: мистического и аскетического опыта, литургического богословия, иконографии и т.д., одним словом, обнищание или отрицание Христианства. Церковь и ее жизнь не значит только первохристианство, как бы оно заманчиво для нас ни было; это значит полнота всей богочеловеческой жизни во все века. Но все же нет противоречия в благоговейной любви и верности преданию и опыту Церкви с отрицанием талмудического, т.е. формального подхода к этому преданию и опыту.
Живое предание в благодатной жизни Церкви именно и убивается формально-талмудическим подходом. Талмудизм, отстаивающий примат формы, сковывает творческий порыв, не приемлет вечно открывающейся истины, т.е. попросту запрещает Церкви жить. И этот талмудизм проявляется не только в жизни, например, храмовой, литургической или в формах устроения церковного. Он идет дальше. Он не мыслит, не живет духом, не хочет знать богословского творчества; он подобен ветхозаветному народу, говорившему пророкам: «не пророчествуйте» (Амос 11, 12) и «перестаньте провидеть» (Исайя, ХХХ, 9). Для них откровение прекратилось. «Истина, говорят они, потребная для нашего спасения, открылась сполна. Церковь может жить накопленным богатством своего векового духовного капитала. Все дано в Евангелии и у отцов. Все остальное — от лукавого и не нужно».
Тут забывается, что мысль не может не мыслить, и ум человека, по слову святого Григория Богослова, не может не переселяться к Великому Уму («Слово о смиренномудрии, целомудрии и воздержании», т. V, стр. 121.), что человек создан не только пассивным преемником с неба данных готовых истин, но и сам участвует в откровении, и сам ищет и творит. Творчество есть одно из богоподобных свойств духа человеческого. В Церкви творится и далее новая жизнь.
Пастырь-левит боится этого в Церкви. Он хочет остановить животекущий источник в ней. Он сам не мыслит, боится мыслить, запрещает мыслить и другим. Он погружен в безмятежную, глубокую спячку. Он чужд всяких кричащих вопросов современности, мучительных, опасных, потрясающих опасно больное человечество. В своей духовной спячке он не слышит ничего, что происходит кругом, и желает только одного: как бы остаться подольше в этом сне и бездействии, оправдывая себя тем, что он якобы что-то «охраняет».
Пастырь-левит хочет остановиться и в закостенелых формах изложения веры. Он говорит каким-то ложно-классическим проповедническим языком, уснащенным церковно-славянскими оборотами, плохо понятными верующим. Он боится живого, литературного, общепонятного языка. Левитская школа и учебник церковного витийства в духе филаретовско-иннокентиевских гомилий запретили ему говорить иначе.
Пастырь-левит вносит талмудический дух и в отправление богослужения. Ему дороже форма и буква, чем живое, от сердца молящегося идущее настроение. Он боится сделать богослужение более понятным и доступным чувству верующего. Он раб укоренившихся предрассудков в священном ритуале, например: чтении Слова Божия известным, стереотипным способом, с руладами и переливами голоса, имеющими удивить любителя своими чудовищными низами и верхами, но совершенно неудобопонятное верующим. Он любит пышность и театральность в служении и в них полагает смысл и суть православной храмовой молитвы. Дух талмудизма старается оправдаться тут любовью к уставным традициям, но любовь эта не идет дальше пустого формализма: устав ради устава и внешнего эстетизма в ущерб смыслу и содержанию молитвы. Новозаветный талмудизм ошибается, если думает, что форма и устав возродят утерянный дух молитвы. Если нет молитвенного духа, если священник не молится внутренней молитвой, то и устав не создаст ему молитвенную стихию. Устав тут похож на быт. Как и быт, он показывает степень воплощения в жизнь известного настроения, но как и быт, он сам по себе бесплоден. Он только памятник молитвенного пафоса и творчества и регулятивный символ литургической жизни, но сам по себе он не сотворит ничего и не возжет потухающего пламени.
Дух левитства замыкается и в узко-национальных рамках. Он забывает, что спасение возвещено всем, что в Евангелии нет ни эллина, ни иудея, что шовинизму нет места в Церкви. Рабствуя формам социального строя, канонизируя и оправдывая человеческие надстройки и стенки, он рабствует и национальным фетишам. Ему чужда идея вселенской, истинно соборной Церкви всех племен и народов. Он не расслышал в огненном чуде Пятидесятницы, как «вси начаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными поведениями Святыя Троицы», как в Божественной симфонии языков все народы дают один мощный аккорд славословия Имени Божия. Он не поднимается выше своих националь ных, провинциальных интересов и вкусов, он еще ползает в пределах ветхозаветных понятий и не может воспарить над всем миром. Этот дух языческой любви только к своему народу и языку мешает левиту молиться в храме, если там поют не на наши привычные молитвы и не нашим языком. Тот же дух узко-национальный толкал когда-то греков сжигать арабские церковные книги и болгарские антиминсы, а славян — греческие. Левиту чужда идея вселенского единства Церкви; ему и так хорошо; он не стремится узнать о жизни и вере единоверных братьев, молиться с ними едиными усты и единым сердцем, хотя бы и на разных языках, его не мучает разобщенность христиан и разрозненность стада. Проблема воссоединения обломков христианства ему чужда и не нужна. Глядя на современное раздирание Христова хитона, он остается равнодушным. Он не мучается тем, что перед лицом торжествующего атеизма Церковь остается разбитой на куски и осколки. Разделенная и по догматическим вопросам, и по племенам и народам, по календарным стилям и обрядам, по юрисдикциям и по именам иерархов, Церковь наших дней служит справедли вым укором всем, а особенно пастырям. Нарочито прискорбно и больно это разделение нешвенного хитона Христова замечается там, где, казалось бы, ему никак не должно было быть места: у иерусалимских святынь, у Гроба Христова и подножия трепетной Голгофы, где некогда римские воины не дерзнули разодрать хитона Христова. Пастырь, равнодушный и к этому, не болеющий душой и не молящийся искренне о соединении всех, не преодолел в себе левитского самостного духа, не вырос до уровня первосвященнической молитвы Христовой, «да все будут едино» (Иоанна, XVII, 20).
Священство левитской традиции, одним словом, уснуло крепким сном, уснуло еще до того, как Слово Божие сошло на землю, и не проснулось, и не расслышало, как это Слово, ставшее плотию, возвестило новую Истину и новую заповедь и для всех людей и, конечно, прежде всего для носителей этой заповеди, для пастырей.
Что же такое «пророк» как тип, как стиль пастырствования?
Конечно, это не то же, что Церковь присвоила известному лику, канонизированных ею ветхозаветных праведников. Хотя этот термин и заимствован из Библии, но значение ему дается несколько иное, приближающееся больше к понятиям памятников первохристианских времен. Пророк в этом смысле, — это не угадыватель и не предсказатель будущего. Это носитель духа творческого, не успокаивающийся на пути своего пастырского делания, вечно алчущий и жаждущий общения с Источником Истины, чуткий к тому, что происходит кругом в мире, не примиряющийся с укоренившимся злом и неправдой, какими бы авторитетами мира сего они ни были санкционированы. Это пастыри, сознающие себя иереями Бога Вышнего, Бога Живого, сами живые и исполненные дерзновенной веры. Это те христианские пастыри, которые ощущают и переживают трагичность христианства и своего призвания.
Пророк ветхозаветный редко был и священником (Иезек. I, 3; Иерем. I, 1; Паралип. XXIV, 20); это были два параллельных института религиозного обихода. Священник новозаветный должен быть и пророк по духу своего пастырство вования; он не может им не быть. Ветхозаветный левит уже по рождению становился священником. Пророк же непосредственно призывался Богом. Не право сословия и не заслуги отцов возносили его на высоту его служения. «Я не пророк и не сын пророка», — говорят они (Ам. VII, 14).
Ветхозаветный пророк своими огненными речами и всей жизнью обличал несовершенство священников, царей и народа. Он посылался свыше как некий корректив к неудачным примерам священничества. Священник же новозаветный как пророк должен в себе постоянно слышать этот голос Божий и всегда быть коррективом к самому себе.
Ветхозаветные пророки непосредственно призывались из разных слоев общества и с разных мест (цари, пастухи и т.п.) и вдохновлялись Духом Святым. Но и пастыри Христовы в таинстве хиротонии получают ту же благодать Св. Духа, которая «оскудевающее восполняет и немощное врачует». Если те древние пророки слышали глас Божий и общались с Богом, то и новозаветный пророк-иерей общается ежедневно с Самим Господом в святейшем таинстве Евхаристии. И неужели же не слышит гласа Господня? Древний пророк не боялся открыть своего слуха и сердца для познания и вмещения Истины Божией. Неужели же этого должен убояться новозаветный пророк-иерей, наполненный ведь не меньшей благодати того же Духа, как бы ни казалась страшной, невместимой и головокружительной эта истина? Древний пророк проповедовал идею нравственного обновления, внутреннего перерождения (Ис. I, 10; VI, 7; Ос. VI, 1; XII, 3, 6, и т.д.), обличал общественное зло, неправду сильных мира, будил свой народ и своих священников. Он был непреклонным хранителем правды. Неужели же не должен быть таким же новозаветный священник и пророк? Не призван ли он совершать свое служение мистического преображения мира?
В ветхозаветном Израиле был дан Богом Моисею институт священства и жертвенный кодекс. Левиты были хранителями и исполнителями этих предписаний. Пророки, так остро обличавшие этих левитов, восставали ведь не против ритуала и жертвенного института. Они восставали против наличных форм применения этого ритуала и этих жертв. Они громили священников, «искажающих закон и оскверняющих святыню, не отличающих священного от поганого и между нечистым и чистым не показывающих разности (Иезек. XXII, 26), »бесславящих Имя Господа" (Малах. I, 6), «священников лицемерящих»(Иерем. XXXIII, 11), «священников, учащих за плату» (Мих. III, 11), «пасущих самих себя» (Иезек. XXXIV, 2) и «ставших такими же, как и народ» (Ос. IV, 9). Так и новозаветный пастырь постоянно должен в себе возгревать пророческое отношение к жертве, к молитве, к уставам Церкви, а не левитское привычное обращение со святыней.
Ветхозаветные пророки были слугами своего народа. Они, конечно, стояли на уровне национально-еврейского характера откровения и богоизбранности Израиля. Но не следует забывать, что были и пророки, поднявшиеся над этим уровнем узко-нацио нальным. Господь призывал некоторых их них для служения вне границ еврейского народа (Иона пророк) и приоткрывал им более широкие горизонты (Захар. VII, 22–23). Подняться до идеи общечеловеческого служения, конечно, они не могли. Это дано уже в уделах пастырям новозаветным. И тут пастырь не смеет возвращаться вспять к воззрениям Ветхого Завета и замыкаться в национальных границах. Задачи христианского пастыря более широки, и он должен, он обязан приносить в жертву вселенско му, общечеловеческому свое национальное, свои привычки и предрассудки. Патриотические стремления, как бы возвышены они ни были, не могут быть выше евангельских, вселенских целей. Национальное должно быть в пастыре подчинено христианскому, всемирному, наднациональному. Если пастырь этого не может сделать, он опять-таки рабствует левитскому атавизму.
Еп.Порфирий говорит: «Во всей Европе большой неурожай духовный. Посредственность и тяжелое спанье духовных сил заменяет бодренность и полет дарований в области истины, добра, красоты и правды… Россию морит нищета духовная. Где у нас пророки, которые вдохновенным словом питали бы Русь, по природе склонную к вере, поэзии и чарам духовного мира?.. Где у нас пророки, которые во имя Бога и Евангелия проповедовали бы плененным свободу?.. Где апостолы?.. » («Книга бытия моего», том III, стр. 238–239)
Но ведь дух и стиль пророческий так необычны на общем фоне духовной буржуазности. Они кажутся резким диссонансом. Они звенящей нотой врываются в спокойное журчание обывательского христианства, безмятежно-счастливого и самодовольного. Такие люди кажутся утопистами и юродивыми. И вот поэтому-то и возникает вопрос: возможно ли пророческое служение и теперь? Не есть ли оно специфическое отличие ветхозаветного или первохристианского религиозного обихода?
При взгляде на религиозную жизнь как на нечто совершенно устоявшееся и на христианство как на совокупность закоченевших прописей, а на пастырское служение как только на некое охранение традиций и канонизированных форм, — при таком взгляде, пророческое настроение и горение духа, конечно, анахронизм, и стремление к нему — ненужная, жалкая и опасная попытка вернуть к жизни уже давно ушедшее.
Но если христианство не умерло, если Церковь живет и теперь, если наша литургия имеет ту же силу, что и в первые дни жизни Церкви, если через священника действует Божественная чудотворная благодать и он претворяет стихии, врачует болезни, имеет силу на бесов, и освящает, и преображает этот омраченный грехом мир, — то мы не можем быть мертвыми в вере, не смеем не пламенеть духом. И в таком случае мы, пастыри, не можем не быть вдохновенны духом Илии, Исаии, Предтечи, ап.Павла и пророков Дидахи. Повторяю: быть пророком — не значит только предсказывать будущее. Это значит гореть и дерзать перед Богом. Это значит — не мириться с царствующим злом. Это значит — будить усыпающую религиозную стихию, отзываться и чутко реагировать на все проблемы, мучающие человечество. Если же умер в нас дух апостолов и пророков, то мы только сословие жрецов, совершающие свое служение левиты.
Предвидя охлаждение духа в христианстве и окостенение эмпирических форм Церкви, апостол пишет к Солунской общине: «пророчества не уничижайте» (I Сол. V, 20). В этом духе пророческом видел он дерзание веры, залог истинного служения и хотел видеть то же и в своих наследниках и продолжателях дела богочеловеческого. Он не ошибся в своих опасениях. Как когда-то Израиль говорил своим пророкам: «не пророчествуй те нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное» (Ис. ХХХ, 10, ср. Ам. II, 12), так и в Церкви Христианской стал постепенно угасать дух дерзновенного служения Богу; форма стала воцаряться над сущностью, и в быте стали видеть содержание Евангелия. Весьма скоро стали забывать и бояться этого пророческого духа. Ведь без него, конечно, спокойнее течет жизнь в Церкви. Не нужно быть горячим, можно не искать, можно дать себе позволение успокоиться на мягких перинах узаконенного обихода. В этом великое искушение быта. Первохристианская община в пафосе своего религиозного вдохновения жила еще духом пророческого служения и не боялась его. Дидахи позволяет «пророкам благодарить сколько хотят». Св. мученик Иустин Философ также повествует о том, что священники благодарили, сколько могли, т.е. сколько было у них вдохновения и силы (I Апол., гл. 67). Это свидетельствует о том, что в этом религиозном вдохновении ясно видели и ощущали искреннюю силу веры. Это было как бы критерием истинности религиозной жизни. В этом не было ложного, наигранного пафоса и болезненного искривления духовного пути.
Говоря в одном из своих слов (Сл. 42, «прощальное») о чуде Пятидесятницы, св. Григорий Назианзин прекрасно характеризует состояние духа только что просветленных и облагодатайствован ных апостолов: «это была сила духа, а не исступление ума» (Собрание творений, т. IV, стр. 36). В этом и совершалось все служение Христианской церкви. Христианин как таковой, а особливо пастырь, должен быть, не может не быть преисполнен этой силы духа, этим духом пророческим. Вот и св. Златоуст еще не боялся говорить: «Мы делаемся и пророками, когда Бог открывает нам то, что око не виде и ухо не слыша (I Кор. II, 9). Ты в купели крещения соделываешься и царем, и священником, и пророком» (Беседа III на II Коринф.).
Не будет, пожалуй, ошибкой сказать, что от дней апостольских до наших не было времени более ответственного и острого для Христовой Церкви. Катастрофичность и апокалиптичность нашей эпохи достаточно, кажется, очевидны для всех, кроме еще слепотствующих. Господь не терпит и грозно обличает теплохладность веры (Ап. III, 16). В наше же время в особенности не может быть мертвенности веры, духовной спячки, глухоты по отношению к совершающемуся в мире. Сдвигаются и перемещаются огромные пласты и слои, стоявшие неподвижно столетиями. Восстают против Церкви целые народы, но и возвращаются к Церкви огромные караваны заблудившихся странников. Перед современными пастырями, кажется, осуществляются слова пророка: «…вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Амоса VIII, 11), — и утолить этот голод и жажду призывается священство пророческого духа. Во всеоружии современных требований должны они нести свое служение. Путей пастырство вания перед нами много, и каждый из них благословен, и на каждом нужны ревностные работники. Выбор их зависит и от их индивидуальных стремлений и вкусов, и от воли Церкви, посылающей их быть ее приставниками. Но на каком бы пути ни совершали они свое дело, они должны совершать его в духе Доброго Пастыря, не оглядываясь вспять на некогда обеспечен ное, спокойное, устоявшееся благоденствие левитское и помня о трагичности нашего времени и своего служения.
А главное, не угашать в себе религиозного пастырского вдохновения и идти стопами пророков и апостолов. Не бояться горящего в них молодого огня. Не гасить его, не поддаваться убаюкиваю щему бытовому укладу, не отдаваться эстетизму в ущерб духовности. Не бояться, горя духом, показаться несовременными, утопистами, юродивыми, не созвучными общему серенькому фону духовной буржуазности. Помнить слова назианского богослова, мною приведенные и совершать свое служение «не в исступлении ума, а в силу духа».
«Духа не угашайте, пророчества не уничижайте». А что такое этот дух пророческий, какой смысл придаем ему мы в Пастырском богословии и что значит быть пастырем пророком, а не левитом, мы и постарались выяснить в настоящей статье.