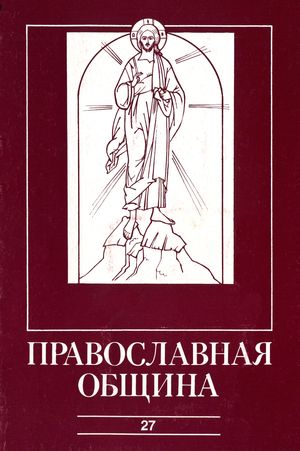Стихи
15 ДЕКАБРЯ 1994 года умер русский поэт Борис Чичибабин. Для каждого, читавшего и любившего его стихи, это горькая весть. Но смерть — это и последняя строка творчества, дающая ему окончательный чекан, та траурная форма, в которой отныне стихи его будут жить с нами, оставшимися.
Поэтическая судьба Бориса Чичибабина трагична. Источником его творчества стало глубокое и непреодолимое противоречие, которое он сам отчетливо осознавал в себе и четко сформулировал: «Я не могу любить людей, распявших Бога». И это личная, почти отчаянная любовь к Нему оказывается неприятием заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и отрицанием Его правоты. Невозможность рассудочного решения не обязательно приводит к бездействию, а безнадежность и обреченность могут стать «энергией заблуждения» и дать силы для поиска новых неверных ответов. С Борисом Чичибабиным так и произошло. Его поэзия стала выражением этого поиска.
Онтологическое противоречие, пережитое поэтом как личная трагедия, в конце концов есть недо-верие, порыв в пустоте, без обретения твердой опоры в конкретности мистического опыта. Когда это противоречие остается непреодоленным, в стихах Чичибабина звучит жалобная нота как сентиментальный диссонанс. Но прежде чем строго судить поэта, нужно признаться самим себе, что мы чаще всего уходим от самых трудных, болезненных вопросов, делая вид, что к нам они не относятся. И это те вопросы, ответ на которые ищет и не находит Чичибабин.
Поэзия Бориса Чичибабина трогательна. Он не изрекает последние истины, а говорит о мучительном сомнении, с которым неизбежно сопряжен их поиск. Он не требует следовать затверженному канону, а просит не закрывать глаз и не отворачиваться от мира.
Когда в недавнем прошлом поэт говорил: «Давайте что-то делать», он обращался к той публике, которая выбрала как жизненный принцип сопротивление злу бездействием и полагала, что так удастся уберечься от нечистоты действительности. Его позиция была трудно защитима. Но он шел на риск и просил не опускать рук, искать приложение своим силам сейчас и здесь.
Стихи Чичибабина — живое движение с его неизбежной неустойчивостью и ошибками, но и с действительным теплом и светом. Это та искра истины, которая осталась нам после его ухода. Будем благодарны поэту.
Владимир Губайловский
Борис Алексеевич Чичибабин (Полушин) родился 9 января
В
* * *
«Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях — труха.
Сплошные, брат, Содомы с Адамова греха.
Повырублен, повыжжен и, лучшего не ждя,
мир плосок и недвижен, как замыслы вождя.
Он занят делом, делом, а ты, едрена вошь,
один на свете белом безделицей живешь,
а ты под ветхой кожей один противу всех.
А может, он-то — Божий, а не Адамов грех?…»
Я — слышу и не слышу. Я дланями плещу —
а все ж к себе под крышу той дряни не тащу.
Истошными ночами прозрений и разлук
безбожными речами не омрачаю слух.
Вам блазница — сквозь нехоть в зажмуренной горсти –
куда-нибудь уехать, чтоб что-нибудь спасти.
Но Англия, Москва ли — не все ли вам равно?
Смотрите: все в развале — и все озарено.
Безумные искусства сексэнтээрных лет
щекочут ваши чувства, а мне в них проку нет.
Я ближним посторонний, от дальнего сокрыт,
и мир потусторонний со мною говорит.
Хоть Бог и всемогущий, беспомощен мой Бог.
Я самый неимущий и телом изнемог,
и досыта мне горя досталось на веку,
но, с Господом не споря, полвека повлеку.
Под хаханьки и тосты, под жалобы и чад
мне в душу светят звезды и тополи молчат.
Я самый иудейский меж вами иудей,
мне только бы по-детски молиться за людей.
Один меж погребенных с фонариком Басе,
я плачу, как ребенок, но знающий про все,
клейменный вашим пеклом и душу вам даря.
А глупость верит беглым листам календаря.
Вы скажете: «О Боже, да он — без головы?…»
А я люблю вас больше, чем думаете вы.
Пока с земли не съеду в отдохновенном сне,
я верю только свету и горней тишине.
Да прелесть их струится из Вечности самой
на терпкие страницы, возлюбленные мной.
И я скорблю и горблюсь, и в думах длится ночь.
А глупость верит в глобус. И ей нельзя помочь.
Между печалью и ничем мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь «зачем?»,
а кто-то скажет «жаль».
И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.
Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет божий хмель.
Нам — как дышать — приняв печаль
гонений и разлук, —
огнем на искру отвечать
и музыкой — на звук.
И обреченностью кресту,
и горечью питья
мы искупаем суету
и грубость бытия.
Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.
И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.
Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.
И снова — за листы поэм,
за кисти, за рояль, —
между печалью и ничем
избравшие печаль.
* * *
Ежевечерне я в своей молитве
вверяю Богу душу и не знаю,
проснусь с утра или ее на лифте
опустят в ад или поднимут к раю.
Последнее совсем невероятно:
я весь из фраз и верю больше фразам,
чем бытию, мои грехи и пятна
видны и невооруженным глазом.
Я все приму, на солнышке оттаяв,
нет ни одной обиды незабытой, —
но судный час, о чем смолчал Бердяев,
встречать с виной страшнее, чем с обидой.
Как больно стать навеки виноватым,
неискупимо и невозмещенно,
перед сестрою или перед братом, —
к ним не дойдет и стон из бездны черной.
И все ж клянусь, что вся отвага Данта
в часы тоски, прильнувшей к изголовью,
не так надежна и не благодатна,
как свет вины, усиленный любовью.
Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели —
на то и жизнь, на то и воля Божья.
Мне это все открылось в Коктебеле
под шорох волн у черного подножья.