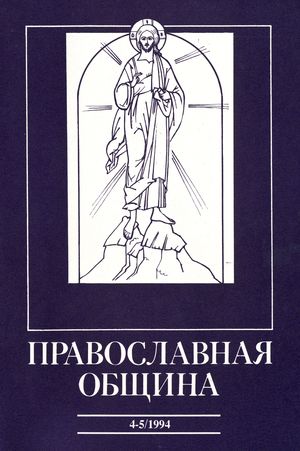Наследие новомучеников и исповедников российских и проблема восстановления полноты церковной жизни
Дорогие отцы, братья и сестры, все участники конференции!
Вы все, наверное, обратили внимание на интересную специфику нашей конференции, которая называется «Исторический путь Православия в России после 1917 г.», но которая приурочена к десятилетию смерти о. Александра Шмемана. Это сразу дает определенную широту и определенный контекст той работе, которую мы ведем. Действительно, за первые полтора дня были прочитаны интересные доклады, касающиеся и русской церковной истории сразу после революции, т.е. того, что происходило в России прежде, и того, что происходило и происходит за ее границами и больше принадлежит нашему времени, нашей современности. Таким образом, мы вынуждены самим контекстом нашей встречи говорить об истоках и о последствиях, и о том, чем живем мы здесь, и о том, что происходит в русском рассеянии и в церквах, с ним прямо связанных. Поэтому я выбрал сегодня тему о наследии новомучеников и исповедников российских и проблеме усвоения их наследия, т. е. о проблеме восстановления полноты нашей церковной жизни. Для нас это повод для размышления. Очень жаль, что из-за недостатка времени я не смогу аргументировать каждое свое утверждение и только в отдельных местах буду приводить некоторые примеры.
Конечно, если вслушиваться нашим церковным слухом, то мы, с одной стороны, счастливы, что являемся наследниками, или что можем быть наследниками этих удивительных подвижников, исповедников, мучеников, и в то же время тех, кто как бы продолжал подвиг свидетельства в иных условиях—за рубежом. Но с другой стороны, перед нами встают трагические вопросы. Почему же все-таки, от чего и для чего произошло все это с нами? Почему это было, ведь это беспрецедентно в истории? Церковь столь жестоко, столь тоталитарно гнали, и гнали уже не римские язычники, а многие из членов народа Божия, те, кто принадлежал к этому народу. Что же делать дальше? Каковы плоды всего этого? Неужели все это пройдет бесплодно? Неужели пройдет так, что об этом узнают лишь очень немногие специалисты, люди, читающие книги или почитающие кого-то из тех мучеников и исповедников, которые волею судеб стали близки тому или иному верующему сердцу? Мне представляется, что перед нами сейчас некоторая опасность не реализовать по меньшей мере половины этого наследия, в первую очередь, наследия новомучеников, потому что оно как-то не осмысляется, оно еще лишь иногда воспоминается. Правда, идет напряженная работа по лучшему воспоминанию, что очень важно, но глубоких осмыслений все еще нет.
Действительно, мы являемся современниками, казалось бы, церковного возрождения: возвращаются храмы, можно и проповедовать, можно печатать книги. Все это связано с большими трудностями, но тем не менее—можно. Уж во всяком случае никого не расстреливают по поводу проповеди в храме и т. п. и т. д. Но мы не можем не видеть, что это восстановление, это возрождение, которое происходит в последнее время, последние годы в нашей церкви, ориентировано очень определенно, так, что это дает свои плоды. Ориентация может быть оценена прежде всего как ориентация на восстановление того стиля, тех форм жизни, которые принадлежали последним векам—XVIII, XIX, началу ХХ, т. е. как бы в этом восстановлении не присутствует или почти не присутствует опыт ХХ века, столь богатый, хотя и столь трагический, столь многой кровью добытый Церковью. Причем, подчеркиваю, я хочу его отнести не только к тому, что происходило здесь. Я говорю и о тех, кто за рубежом должен был исповедовать свою веру в трудных условиях и внешней, и внутренней жизни. Это проблема. Традиция новомучеников, а мы можем говорить о ней как традиции, сознательно скрывалась долгое время, слишком долгое время, и даже уничтожалась. Мы не можем не констатировать, что сейчас в церкви—в основном те люди, которые, по существу, не знают об этой традиции, которые читают книги—часто переиздания книг XIX—начала ХХ века, и для них действительно не существует опыта ХХ века.
А посмотреть в глаза людям-носителям этого опыта трудно, их очень мало осталось. Слава Богу, есть и среди нас, здесь присутствующих, такие глаза*.
Уничтожение традиции новомучеников происходило с помощью самых современных средств. Была сознательная клевета на церковь, уничтожались документы. Это—кроме того, что уничтожались прямые свидетели, люди. Ведь сохранилось очень немногое. Вот, есть прекрасные письма, которые цитируются, и другие документы, но это ведь тоже капля в море, которое пред Богом, в вечной памяти Божьей существует.
Но как мне представляется, есть еще одна проблема, кроме той, что мы не можем в полноте узнать этот опыт,—существование некоторых препятствий в усвоении его. Существует опасность профанации наследия новомучеников, если мы возрождаем лишь формы церковной жизни, забывая о ее духе, или если, как сейчас это нередко происходит, мы возрождаем храмы, напрягая последние силы, но при этом забываем о живых камнях тела церковного, о членах церкви, в том числе новоприходящих, начинающих почти с нуля свою церковную жизнь.
В связи со всем этим и встает проблема восстановления полноты церковной жизни с учетом наследия новомучеников и исповедников российских, с максимально возможным усвоением его.
Для нашего времени характерно все более серьезное отношение сознательных членов Православной церкви к утверждению, что актуальная полнота жизни и предания в нашей церкви утрачена, и поэтому одной из главнейших задач церкви является ее восстановление.
То, что беспрецедентные гонения на церковь привели к притеснению и сужению реального русла церковной жизни в нашей церкви (может быть примерно так же, как это произошло с греческими церквами после падения Константинополя), это очевидно для всех. Но что такое полнокровная, полная церковная жизнь—мало кто себе представляет. Чаще ее представляют себе, как некий образец такой полноты, ту или иную эпоху из церковного прошлого. Наиболее очевидны подъем церковной жизни и нормальная преемственность ее в конце XIX—начале ХХ века, поэтому многие видят наилучший выход из нынешнего положения в простом возврате к этому прошлому.
Однако знатоки церковной жизни того времени однозначно считают, что этого делать нельзя, что это большая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия. Они напоминают и о том, что именно православный народ России в большинстве своем после 1917 г. отвернулся от церкви, разрушал и гнал ее. Свидетельств о внутреннем тяжелом и раздвоенном состоянии Русской Православной Церкви и ее членов в те времена более чем достаточно, какой бы области церковной жизни мы ни коснулись, даже, казалось бы лучших—богослужения, иерархии, монашества, каноники, аскетики, этики, педагогики, катехетики, миссионерства и т. д.
Раздвоенность жизни на духовную и светскую уже тогда привела к антицерковным настроениям среди интеллигенции и аристократии. Подавленность церкви государством также давала свои плоды. Культура, пытавшаяся совмещать в одном сердце Христа и Антихриста, уничтожала плодородную почву под ногами начинавших творить гениев. Н.В. Гоголь говорил: «Грусть от того, что не видишь добра в добре».
Но и другие эпохи из церковного прошлого не могут быть для нас единственным примером. Нам вовсе не заповедано оборачиваться назад, взявшись за плуг, и в личностном, и в общеисторическом отношении. Нам надо идти за Христом вперед и вверх, хотя и с учетом всего опыта прошлого. Представляется, что для собирания этого опыта, в первую очередь, надо вспомнить обе части предания Русской Православной Церкви, разорванного после 1917 г., но живого по сей день. Одна из этих частей—опыт подвига веры и свидетельства тех, кто должен был уйти из России и жить в неродной среде, которая и обогащала их, и наступала на них. Другая—опыт новомучеников и исповедников российских внутри страны, тех, кто отдавал за веру свою жизнь пред лицом иного рода вражды и агрессии, перед теми, кто уже не мог и даже не хотел делиться уже никаким добром, ибо этого добра им не хватало для них самих.
Итак, богословы, философы, историки, ученые, писатели, поэты, художники, композиторы и т. п.—с одной стороны, а с другой—мученики и исповедники из епископата, клира, монашествующих, церковного актива и других мирян, чаще из простого народа, хотя иногда и из остаков высших слоев высшего общества. О вкладе первых уже приходилось не однажды слышать, говорить, читать и писать, и здесь много об этом говорилось в связи с памятью об о. Александре Шмемане. У нас сейчас иная тема—о вторых, и о том, как опыт и наследие новомучеников и исповедников российских помогает и, верится, еще поможет нам в церкви в решении многих современных проблем восстановления полноты церковной жизни. Этот опыт новомучеников и исповедников российских прежде всего показывает, что началась новая эпоха церковной истории—эпоха, которую пока окрестили «послеконстантиновской» или, менее удачно, «посленикейской».
В оценке нового духовного и церковного опыта этой эпохи мы, конечно, черпаем из того кладезя, который уже открыт нам, хотя знаем, что еще должно быть многое дано и многое открыто. Собирать опыт церкви воедино, очищая его от примесей и вещей второстепенных—одна из важнейших задач. Это требует от нас внутренней переориентации, почитания живущих и недавно живших святых более, чем прежде, как и вообще ухода от «заоблачного» и даже «загробного» христианства, так же как и от слишком заземленного и недерзновенного казенно-охранительного православия, не верящего в силу благодати Духа.
Опыт русских святых ХХ столетия требует от нас вникнуть в дух единства и различия канонических, мистериальных и мистических границ Церкви. Это задача возрождения кафоличности и экуменичности церковной веры и жизни, открытости всех членов церкви ко всякой правде и истине Божией, где бы и у кого бы они ни обретались. Этим духом вселенскости и открытости, независимости лишь от привычных и старых форм и формул дышит всякий образ, всякое слово и дело российских исповедников и мучеников, даже евхаристическое.
Я застал еще некоторых из них, и об очень многих читал и слышал. Вспомним из последних хотя бы о. Тавриона Батозского, глубоко по духу православного и в то же время открытого к католической и протестантской традициям и, главное, к живым их носителям. Эта открытость позволяла ему и поставить в храме католическую статую, и даже в ряде случаев причащать тянувшихся и приходивших к нему инославных, ничего особенного от них не требуя, кроме обычного для всех личностного соучастия на литургии. Этот же дух позволял ему, как и многим другим святым, широко использовать на богослужении живую проповедь, современный язык (известны такие переводы о. Василия Адаменко и опыт о. Василия Абоймова, благословленные владыкой Сергием Страгородским и поддержанные, например, профессором М.Н. Скабаллановичем) и свободные молитвенные включения в традиционные чинопоследования.
В связи с этим опытом нам можно с новой силой утверждать старую истину, что формы существования и выражения в Церкви единого духа и смысла могут быть различны и вместе с тем в одних и тех же формах могут вмещаться и жить разные духи и даже смыслы. С этим связано обновление в Церкви Христовой единства и свободы духа и смысла. Оно противно всякому хаосу и есть призыв к подлинной простоте и ясности, в том числе на богослужении. Как здесь не вспомнить труды и жизнь митрополита Кирилла Смирнова или епископа Афанасия Сахарова, верившего в спасение некрещеных и высмеивавшего церковный сервилизм и умиленное чинопоклонство.
Официальность и внешняя псевдовизантийская пышность богослужения и церковной жизни были поставлены под вопрос не только внешним, но и внутренним опытом. Тот же владыка Афанасий Сахаров говорил, что уже невозможно служить по византийскому чину пышные архиерейские службы после того, что мы пережили. Литургии в домах, лесах, в заключении и вообще «идеже прилучится» (как был подписан один из известных мне антиминсов того времени—епископа Павлина Крошечкина) требовали возрождения известной с первых христианских веков общинности на местном уровне евхаристического собрания и при этом не одной лишь «круговой поруки», а подлинно церковной личностности, не могущей переступить «во имя общего блага» ни через одного человека, который ведь тоже может быть и являться пред Богом свободной и духовной личностью.
Русские святые нашего века подвигли и подвигают нас к восстановлению подлинной иерархии ценностей, в которой нет никого выше Богочеловека Христа, а значит, и Живого Бога, и сообразного Ему человека. Они выше культа и буквы закона, они ставят в центр всякого церковного собрания Евхаристию—Благодарение Отца за Спасителя и всепрощение, но без компромисса с верой.
Бог и человек не могут быть средствами ни для кого и ни для чего, в том числе и государства. Прекрасный пример переосмысления отношений между церковью и государством—Соловецкое послание.
Новомученики и исповедники российские достигли новой высоты, показав великие, почти библейские примеры смирения и дерзновения. «Бог дал, Бог и взял»,—говорили они словами праведного Иова, но только прибавляли еще пророческое—"по грехам нашим", т. е. своим и церковным. Этим были открыты только зло, ложь—только ложь. Или—грех другого можно простить, но со злом, как внешним, так и внутренним, надо всегда бороться, ибо оно уже не факт, а акт, т. е. дух «не от Бога». Или—никакое насилие никогда до конца оправдать нельзя.
В связи с этим еще очень важно отметить мысль не новую, но очень часто забываемую. Опыт по обновлению церковной жизни новомучеников, вполне входя в древнее святоотеческое «Ecclesia semper reformanda», отличен от опыта обновленцев-раскольников, которые имели слишком близкие отношения с антицерковной властью.
Исходя из того, что мы знаем о новомучениках и исповедниках, мы должны помнить, что церковная жизнь в ее полноте не должна прекращаться ни при каких условиях.
Сейчас, например, когда открывают храмы и они в таком состоянии, что служить там нельзя, и, может быть, нет даже священника, но есть верующие люди, очень печально видеть, что церковная жизнь, духовная жизнь не возрождается. Люди ждут. А чего ждут? Когда эмигрировали многие русские люди за границу, они начинали службу, как известно, и в гаражах, и, казалось бы, в самых неподходящих местах. Они быстро оборудовали любое помещение. Неужели мы можем связывать мирянские богослужения только с беспоповщиной, даже тогда, когда священник заболел или, например, уехал, или когда его просто нет? Сейчас во многих приходах священника просто нет и, может быть, не во всех он быстро появится. Так неужели нельзя начинать без него богослужения по известному в церкви чину? Всем известно, чем отличается мирянское богослужение, любое из часослова—вечерня, утреня и т. д., от священнического. Почему-то здесь обычно проявляется нерешительность, а в результате люди рассеиваются, часто последние люди, которые могли бы способствовать возрождению нашей церкви и веры Христовой.
Конечно, все, о чем я сегодня говорил, требует глубокого, серьезного обсуждения. Это некоторый концентрат, конгломерат горячих, на мой взгляд, моментов. Их неусвоение слишком дорого может обойтись нам, сейчас живущим в церкви. Мы знаем уже печальные плоды некоторых крайних позиций, когда действительно, можно только диву даваться: сморишь, слушаешь и думаешь—неужели не было целой эпохи мучеников, исповедников? Неужели она нам ничего не дала?
Дай Бог, чтобы не случилось этого с нами!
* Доклад на конференции «Исторический путь Православия в России после 1917 г.» (Санкт-Петербург, 31 мая — 2 июня 1993 г.)
* На конференции был, в частности, профессор-протоиерей Ливерий Воронов, участник «псковской миссии».