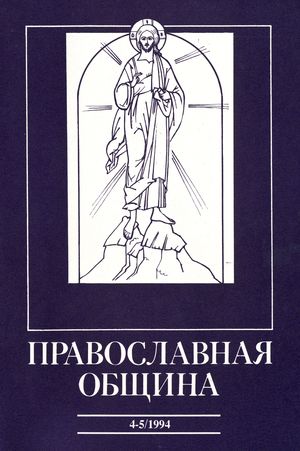Духовность и духовничество
Доклад на второй Международной церковной конференции к 1000-летию Крещения Руси, Москва, 18 мая 1987 г.
ТЕМА моего доклада—духовность и духовничество, или, если предпочитаете, духовное окормление, или душепопечение.
Я хотел бы сначала определить слово «духовность», потому что обычно, когда мы говорим о духовности, мы говорим об определенных выражениях нашей духовной жизни, таких как молитва, как подвижничество; и это ясно из таких книг, как, например, книги Феофана Затворника. Мне кажется, однако, надо помнить, что духовность заключается в том, что в нас совершает действие Святого Духа, и духовность не есть то, что мы ею обычно обозначаем, а эти есть проявления таинственного действия Духа Святого.
И это сразу нас ставит по отношению к духовничеству в очень четкое положение, потому что тогда речь идет не о том, чтобы человека воспитывать по каким-то принципам и научить его развиваться в молитве или аскетически по каким-то трафаретам. Духовничество тогда будет состоять в том, чтобы духовник, на какой бы степени духовности он сам ни находился, зорко следил за тем, что над человеком и в нем совершает Святой Дух, возгревал бы Его действие, защищал против соблазнов или падений, против колебаний неверия; и в результате духовническая деятельность может представиться, с одной стороны, гораздо менее активной, а с другой стороны,—гораздо более значительной, чем мы часто думаем.
Раньше чем пойти дальше, я хочу сказать два слова о том, что духовничество—не однозначное понятие. Есть, как мне кажется, три типа духовников.
На самом основном уровне это священник, которому дана благодать священства, который в себе носит не только право, но и благодатную силу совершать таинства—таинство Евхаристии, таинство Крещения, таинство Миропомазания, но также и таинство Исповеди, то есть примирения человека с Богом.
Большая опасность, которой подвергается молодой неопытный священник, полный энтузиазма и надежды, состоит в том, что подчас молодые люди, выходящие из богословских школ, воображают, будто рукоположение наделило их и умом, и опытностью, и «различением духов», и делаются тем, что в аскетической литературе называли «младостарцами»; то есть, не обладая еще духовной зрелостью, не обладая еще даже тем знанием, которое дает просто личный опыт, они думают, будто их научили всему, что может им помочь взять кающегося грешника за руку и повести от земли на небо.
И, к сожалению, это случается слишком часто, и во всех странах: молодой священник, в силу своего священства, но не потому, что он духовно опытен, и не потому, что Бог его к этому привел, начинает руководить своими духовными детьми «указами»: этого ты не делай; это ты делай; такую-то литературу не читай; в церковь ходи; отбивай поклоны… И в результате получается некая карикатура духовной жизни у его жертв, которые делают все, что, может быть, и делали подвижники,—но те-то делали это из духовного опыта, а не потому что они дрессированные животные. А для духовника—катастрофа, потому что он вторгается в такую область, в которую у него нет ни права, ни опыта вторгаться. Я настаиваю на этом, потому что это насущный вопрос для священства.
Старцем можно быть только по благодати Божией, это харизматическое явление, это дар; и научиться быть старцем нельзя, так же как нельзя выбирать своим путем гениальность. Мы все можем мечтать о том, чтобы быть гениальными, но мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Леонардо да Винчи или Рублев обладали такой гениальностью, которой нельзя научиться ни в какой школе, и даже нельзя научиться длительным опытом, но которая является божественным даром благодати.
Я настаиваю на этом, может быть, слишком долго, потому что мне кажется, что это насущная тема—в России, возможно, больше, чем на Западе, потому что роль священника в России гораздо больше центральна. И часто молодые священники—молодые или по возрасту, или по своей духовной зрелости или незрелости—"управляют" своими духовными детьми вместо того, чтобы их взращивать.
Взращивать—это значит относиться к ним и поступать с ними так, как садовник относится к цветам или к растениям: надо знать природу почвы, надо знать природу растения, надо знать условия, в которые они поставлены, климатические или другие, и только тогда можно помочь—и это все, что можно сделать—помочь этому растению развиться так, как ему свойственно по его собственной природе. Ломать человека для того, чтобы его сделать подобным себе—нельзя. Один духовный писатель Запада сказал: «Духовное чадо можно привести только к нему самому, и дорога внутрь его жизни бывает иногда очень долгая…» В житиях святых можно увидеть, как большие старцы это умели делать, как они умели быть собой, но прозреть в другом человеке его исключительное, неповторимое свойство, и дать этому человеку, и другому, и третьему возможность быть тоже самими собой, а не репликами этого старца или, еще хуже, его трафаретным повторением.
Пример этому в истории Русской Церкви—встреча Антония и Феодосия Печерских. Феодосий был воспитан Антонием, и, однако, их жизнь ничего общего не имеет в том отношении, что Антоний был отшельником, а Феодосий—основоположником общего жития. Казалось бы—как мог Антоний приготовить его делать то, чего он сам не стал бы делать, и воспитать его таким человеком, каким он сам не хотел быть и к чему Бог его самого не призывал? Мне кажется, тут надо очень зряче различать между нашим желанием сделать человека подобным себе и желанием сделать его подобным Христу.
Старчество, как я сказал, это благодатный дар, это духовная гениальность, и поэтому никто из нас не может думать о том, чтобы вести себя подобно старцам. Но есть еще промежуточная область—это отцовство. И опять-таки, слишком часто молодой—и не такой молодой—священник, только потому, что его называют «отец такой-то», воображает, что он не просто исповедальный священник, а действительно «отец», в том смысле, в котором Павел говорил, что пестунов у вас много, но я родил вас во Христе; и то же самое в свое время говорил святой Серафим Саровский. Отцовство заключается в том, что какой-то человек—и это может быть даже не священник—родил к духовной жизни другого человека, который, вглядевшись в него, увидел, как старое присловье говорит, в его глазах и на его лице сияние вечной жизни и потому мог к нему подойти и просить быть ему наставником и руководителем.
Отца отличает также то, что он как бы одной крови, и в духовной жизни—одного духа со своим учеником, и может его вести, потому что между ними есть истинное, не только духовное, но и душевное созвучие. Вы, наверное, помните, как в свое время египетская пустыня была перенаселена подвижниками и наставниками, и, однако, люди не выбирали себе наставника по признаку его выдающейся славы, не шли к тому человеку, о котором говорилось больше всего хорошего, а находили такого наставника, которого они понимали и который их понимал.
И это очень важно, потому что послушание не в том, чтобы делать слепо то, что говорит некто, имеющий над вами или материально-физическую, или душевно-духовную власть; послушание заключается в том, что послушник, выбрав себе наставника, которому он верит безусловно, в котором он видит то, что он сам ищет, вслушивается не только в каждое его слово, но вслушивается и в тон голоса, и старается через все проявления личности наставника и все проявления его духовного опыта перерасти самого себя, приобщиться к этому его опыту и стать человеком, который уже вырос за предел той меры, которой он мог бы достичь своими собственными усилиями. Послушание—это раньше всего стремление слушать, и слышать не только умом, не только ухом, но всем существом, открытым сердцем, благоговейным созерцанием духовной тайны другого человека.
А со стороны духовного отца, который вас родил или который вас воспринял уже рожденными, но может быть отцом для вас, должно быть глубокое благоговение к тому, что в вас совершает Святой Дух. Духовный отец—так же, собственно, как любой добросовестный приходской священник—должен быть в состоянии (и это порой дается ценой усилия, вдумчивостью, благоговейным отношением к тому, кто к нему приходит) видеть в человеке ту красоту образа Божия, которая никогда не отнимается; если даже человек поврежден грехом, духовник должен видеть в нем икону, которая пострадала от условий жизни, или от человеческой небрежности, или от кощунства; видеть в нем икону и благоговеть перед тем, что осталось от этой иконы, и ради этой божественной красоты, которая в нем есть, работать над тем, чтобы устранить все, что уродует этот образ Божий. Отец Евграф Ковалевский, будучи еще мирянином, как-то мне сказал: «Когда Бог смотрит на человека, Он не видит в нем ни добродетелей, которых может и не быть, ни успехов, которых он не имеет, но Он видит незыблемую, сияющую красоту Собственного Образа…» И вот, если духовник не способен видеть в человеке эту извечную красоту, видеть в нем уже начинающееся свершение его призвания стать по образу Христа богочеловеком, то он не может его вести, потому что человека не строят, не делают, а ему помогают вырасти в меру собственного его призвания.
И тут слово «послушание», может быть, следует немножко уяснить. Обыкновенно мы говорим о послушании как о подчиненности, подвластности, а подчас и порабощении духовнику или тому, кого мы назвали—совсем напрасно и во вред не только себе, но и священнику—духовным отцом или своим старцем. Послушание же заключается именно в том, что я сказал выше: в слушании всеми силами души. Но это обязывает в равной мере и духовника, и послушника; потому что духовник должен прислушиваться всем своим опытом, всем своим существом и всей своей молитвой, и скажу больше, всем действием в нем благодати Всесвятого Духа, к тому, что совершает Дух Святой в человеке, который ему доверился. Он должен уметь проследить пути Духа Святого в нем, он должен благоговеть перед тем, что Бог совершает, а не стараться воспитать либо по своему образцу, либо по тому, как ему кажется, человек должен бы развиваться, как «жертва» его духовного водительства.
И с обеих сторон это требует смирения. Ожидаем мы легко смирения со стороны послушника или духовного чада; но сколько смирения нужно священнику, духовнику для того, чтобы никогда не вторгаться в святую область, чтобы относиться к душе человека так, как Моисею приказал Бог отнестись к той почве, которая окружала купину неопалимую. И каждый человек—потенциально или реально—уже является этой купиной; и все, что его окружает, это почва святая, на которую духовник может ступить, только иззув свои сапоги, никогда не вступить иначе, чем как мытарь, стоящий у притолоки храма, глядящий в храм и знающий, что это область Бога Живого, место святое, и он не имеет права войти туда иначе, как если Сам Бог велит или Сам Бог подскажет, какое действие совершить или какое слово сказать.
Одна из задач духовника в том, чтобы воспитать человека в духовной свободе, в царственной свободе чад Божиих, и не держать его в состоянии инфантильности всю жизнь: чтобы он не прибегал всегда по пустякам, пусто, напрасно к своему духовному отцу, а вырос в такую меру, когда он сам научится слышать то, что Дух Святой глаголет неизреченными глаголами в его сердце.
И если подумать о том, что значит смирение, можно обратиться к двум коротким определениям. Первое—"смирение", по-русски это состояние примиренности, когда человек примирился с волей Божией, то есть отдался ей неограниченно, полностью, радостно, и говорит: «Делай со мной, Господи, что хочешь!»—но в результате примирился и со всеми обстоятельствами собственной жизни: все—дар Божий, и доброе, и страшное. Бог нас призвал быть Его посланниками на земле, и Он нас посылает туда, где мрак, чтобы быть светом; где безнадежье—чтобы быть надеждой; где радость умерла—чтобы быть радостью. И наше место не просто там, где покойно, в храме или при совершении литургии, когда мы защищены взаимным присутствием, а там, где мы стоим в одиночку, как присутствие Христово во мраке обезображенного мира.
Если подумать затем о латинских корнях смирения, то humilitas происходит от слова humus, обозначающего плодородную землю. Подумайте—об этом тоже пишет Феофан Затворник,—что представляет собой земля: она лежит безмолвная, открытая, беззащитная, уязвимая пред лицом неба; она принимает от неба и зной, и лучи солнечные, и дождь, и росу, но она принимает также то, что мы называем удобрением—то есть навоз, отбросы, все, что мы в нее кидаем,—и что случается?—она приносит плод, и чем больше она выносит того, что мы душевно называем унижением, оскорблением, тем больше она приносит плода.
И вот смириться—это раскрыться пред Богом так совершенно, чтобы никак против Него, против воздействия Святого Духа или против положительного образа Христа, Его учения не защищаться и быть уязвимыми для благодати, как в греховности нашей мы уязвимы бываем от рук человеческих, от острого слова, от жестокого поступка, от насмешки—и отдать себя так, чтобы по нашему собственному желанию Бог имел право совершить над нами, что бы Он ни захотел: все принимать, открываться, и тогда дать просто Святому Духу нас покорить.
Мне кажется, что если и духовник будет учиться смирению в этом смысле: видеть в человеке извечную красоту, и знать свое место (а это место такое дивное, такое святое: место друга жениха, которому невеста—не его невеста, но который поставлен оберечь встречу жениха и невесты), тогда духовник может действительно быть спутником своего духовного чада, идти шаг за шагом с ним, оберегая его, поддерживая его и никогда не вторгаясь в область Святого Духа; и тогда духовничество делается частью той духовности и того возрастания в святость, к которой каждый из нас призван и которую каждый духовник должен помочь своим духовным детям совершить.
Но где искать духовников? Беда в том, что старцев, даже духовников, искать нельзя, потому что мы можем обойти весь мир и не найти; но опыт подсказывает, что иногда Бог нам посылает нужного человека в нужную минуту хоть на короткий срок. Он тогда вдруг делается для нас тем, чем были старцы.
Знаете, я часто думаю, что мой как бы небесный покровитель—валаамова ослица, которая заговорила и сказала пророку то, чего он сам видеть не мог. Так часто ко мне приходит человек, и я не знаю, что ему ответить, и вдруг нечаянно скажу что-нибудь—и оказывается правильно. И я думаю, что в такой момент Бог тебе дает слово; но рассчитывать на то, что твой опыт, твоя начитанность тебе даст возможность это делать всегда, невозможно, и поэтому приходится очень часто благоговейно помолчать, а потом сказать человеку: «Знаешь, я сейчас не могу тебе ответить…» И у нас есть замечательный пример из жизни—Амвросия Оптинского. К нему приходили люди, прося совета, он их заставлял два-три дня ждать; и в одном случае купец пришел, говорит: «Мне надо возвращаться, у меня лавка закрыта, а ты мне ответа не даешь…» И преподобный Амвросий ему ответил: «Не могу тебе ничего сказать! Я спрашивал ответа у Божьей Матери, и Она молчит…» И я думаю, что и мы могли бы сказать: «Я мог бы тебе от ума, от книг, от рассказов что-то сказать, но это было бы нереально. Я не могу тебе ничего сказать. Молись, и я буду молиться, если что-нибудь мне Бог на душу положит, я тебе напишу, я тебе скажу». Если так сказать, то человек относился бы к слову, которое ты скажешь, совсем иначе, чем когда на все случаи жизни у тебя готовы прописные истины, потому что все наизусть знают твои прописные истины; единственный вопрос в том, что человек не знает той, которая к нему относится вот сейчас.
Еще хочу заметить: нельзя людям предлагать такие формы благочестия, которые они не могут выполнить внутренне, а только внешне обезьянничают. Я это знаю по себе. Я очень долго обезьянничал. Мне очень хотелось быть похожим на Арсения Великого. И из меня получалась очень удачная обезьяна, потому что я человек дисциплинированный. И вдруг я обнаружил, что, во-первых, я не Арсений Великий, а, во-вторых, я не я. Так кто же я такой?—никого нету… . Тут мне пришлось резко снизится, и я понял, что летать я могу только в воображении, а ходить у меня еще плохо получается, поэтому решил, что нужно научиться хоть немного ходить.
Спасибо вам за добрые слова и терпение.
От редакции. Ниже в сокращении мы публикуем развернувшуюся после выступления митрополита Антония дискуссию, в которой приняли участие: митрополит Киевский Филарет (Денисенко), архиепископ Вологодский Михаил (Мудьюгин), настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Гавриил (Галев), протопресвитер Виталий Боровой, настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Нифон (Сайкали), протоиерей Владимир Сорокин, митрополит Смоленский Кирилл (Гундяев) и др.
Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил:
Я очень благодарен, как, думаю, и все остальные, владыке Антонию за его содержательный доклад. Особенно ценно то, что он подчеркнул величие, святость и важность духовничества, духовного руководства в наше время, когда часто, во всяком случае в наших условиях—условиях Русской Православной Церкви,—духовничество сводится к очень поверхностному принятию святой исповеди, и несмотря на благодатную действенность этого таинства, настоящего руководства, в силу чисто объективных причин (многолюдства, иногда усталости самого священника и др.) не получается.
Меня немножко удивило то, что владыка Антоний сравнивает способность такого духовного руководства, которая должна быть свойственна, в сущности говоря, каждому священнику с гениальностью, присущей отдельным высокоодаренным людям. Ведь гениальность—не массовое явление, это свойство или прирожденное, или, во всяком случае, приобретенное в жизни как нечто, присущее данной личности и выделяющее ее из всех остальных. Между тем как быть духовником—это, в сущности, массовое явление, которое вытекает из самого факта рукоположения и из самой профессиональной деятельности любого священника, подчеркиваю—любого.
В силу своего положения, в силу того, что он рукоположен, что он поставлен на приход, священник обязан принимать людей под свое руководство. И на что он может полагаться? Он не может полагаться на свою особую одаренность, на свою какую-то особую святость, которой у него или нет, или, если она у него есть, то он не имеет никакого права и никакой возможности духовной ее за собой признавать или ее себе приписывать. Значит, он может уповать только на благодать, даруемую при рукоположении. Хотя это входит в противоречие с одной из фраз, которую сказал владыка Антоний, но я считаю это неоспоримым. Именно в духе полного смирения, в духе глубочайшего преклонения перед благодатью Духа Святого, даруемой рукоположением, только в такой духовной настроенности человек может, во-первых, молиться об успехе своей духовнической деятельности, и только в таком духе он может ее осуществлять…
И я уверен, что любой священник, который выпущен нашей духовной школой или просто по своему собственному желанию стал священником и получил правильное рукоположение, он несомненно получает, если он этого хочет, если он просит об этом, молится об этом, необходимую оснащенность благодатью Святого Духа, совершенно независимо от личной греховности, от личных качеств, потому что Бог действует не ради него, и не потому, что он такой хороший,—он может быть и очень плохой,—а действует Дух Святой потому, что это благодать рукоположения, потому что он священник, потому что Дух Святой почиет на нем.
Митрополит Антоний:
Я хочу пояснить. Когда я говорил о гениальности, я не говорил ни о священстве, ни даже о категории духовного отцовства, а специально и исключительно о старчестве. И я употребил слово «гениальность», потому что в области разговорного языка оно выражает то, что можно назвать иначе «благодатность». В области мирской это гениальность музыкальная, артистическая, математическая—это нечто, чего мы не можем достигнуть никакими собственными усилиями. То есть я говорил не о священстве вообще, и, конечно, не думал порочить приходского священника, самого молодого, простого, но искреннего, который делает свое священническое дело, исповедуя людей, делясь с ними тем, чему он научился от отцов Церкви, от богословов, от собственного духовника, от окружающей его христианской молитвенной среды. Это драгоценная вещь. Но есть момент, который меня немножко смущает: это то, что некоторые священники—и чем больше они духовно неграмотны и незрелы (это относится также и к мирянам, но сейчас я бью по священникам, потому что они «профессионалы»), тем легче они думают, что как только они облечены в рясу, надели епитрахиль, они будут говорить от Бога. Я помню очень уважаемого человека, которого сейчас многие считают великим старцем на земле, который мне говорил: «Я больше не молюсь, когда люди ставят мне вопрос, потому что, так как после молитвы я говорю Святым Духом, то если они не исполнят точно то, что я скажу, они грешат против Духа Святого и им нет прощения…» Вот это я имел в виду.
Но столько людей стараются поставить священника, к которому они ходят постоянно, в положение, какого он не может занимать, делают из него «старца», хотя он просто честный, добрый приходской священник. Если вы упорно ему внушаете, что он гений, то… мало кто не верит. Потому что, во-первых, трезвых людей меньше, чем нетрезвых, а во-вторых, случись, что его слово исполнилось—вот вам и доказательство! Надо говорить верующим, чтобы они не ставили священников в такое положение. Надо внушать это и тем священникам, с которыми есть личные и сколько-нибудь зрелые отношения. В этом смысле необходимо воспитание священников и прихожан. А до меня доходит, что многие молодые священники, по-видимому, думают, что с рукоположением они получают дар видеть души, понимать людей, и берут на себя смелость их вести. Это, я считаю, разрушительно. И я в ужасе, что человек может думать, что потому что он трижды сказал: «Господи, просвети мой ум, еже помрачи лукавое похотение», то следующие его слова будут просто пророчеством от Бога.
И я думаю, что тут просто элементарный разум играет роль: можно говорить о том, что ты знаешь достоверно. Скажем, беря пример громадного масштаба: святой апостол Павел мог говорить с совершенной достоверностью и уверенностью о том, что воскрес Христос, потому что он встретил живого, воскресшего Христа на пути в Дамаск; о некоторых же других вещах он говорил не из такого первичного опыта. Другие люди также обладают определенным опытом, меньшего масштаба, может быть, меньшей силы, но о котором они могут говорить: «Да, я знаю, достоверно», как один безбожник, обратившийся к Богу, написал во Франции книгу под названием «Бог существует: я Его встретил».
Священник—и мирянин—могут говорить из опыта церковного, которому они причастны, даже если не обладают им полностью; потому что, имея общие с другими некоторые опытные предпосылки, они могут прислушиваться к опыту других, опыту, который еще не стал полностью их опытом; но когда это нужно другому, они могут сказать: «Это—правда, потому что это говорит Церковь, и я знаю из недр церковных больше, чем я знаю из собственного опыта…»
И, наконец, есть вещи, о которых мы можем говорить только потому, что их нам открыл Господь. В Евангелии Спаситель говорит, что Бога никто никогда не видел, но Сын Божий, сущий в недре Отчем, открыл Его. Никто не может об Отце сказать то, что может сказать Сын Единородный. Он является печатью равнообразною, но это еще не значит, что мы, видя печать, можем познать Бога так, как Его знает Христос ( см. Ин 1: 18).
Митрополит Смоленский и Вяземский Кирилл:
Я хотел бы присоединиться ко всем тем, кто самым высоким образом оценил выступление владыки Антония. Уже на протяжении почти двадцати лет я имел возможность время от времени слышать эти выступления и должен сказать, что владыка каждый раз вносит очень важную и свежую струю в наше общецерковное осмысление многих серьезных проблем—что произошло и сегодня.
Вопрос о духовности задается и по радио, и по телевидению, и в нашей прессе, и приходится признать, что на всю эту настойчивость в постановке вопроса о духовности мы не находим ясного и удовлетворительного ответа. Проблема заключается в следующем—если мы сейчас обращаемся к современному человеку и описываем ему духовные ценности исключительно в религиозных категориях или, скажем, в богословских, то и эти ценности, и наши описания вместе с ними остаются малопонятными. Понятно даже чисто филологически, что духовность есть производное духа. Но если мы так скажем человеку, не разделяющему религиозных убеждений, мы тем самым сразу закроем всякий диалог. Он просто не поймет, о чем мы говорим, потомучто он априори отрицает существование духа, как абсолютной и независимой субстанции.
Митрополит Антоний:
Да теперь мы живем в мире инфильтрации идей, и очень важно для нас найти способ наши христианские воззрения облечь в доступные слова и перебросить мост к тем людям, которые не понимают нашего жаргона, потому что современные молодые даже верующие люди, когда читают богослужебные книги или духовных писателей XVIII — XIX века, должны окунуться в совершенно чуждый языковый мир.
Но вот, что я скажу. Есть целая сфера, где мы вступаем в область веры, т. е уверенности в вещах невидимых, но которые не обязательно относятся к чисто религиозной сфере. Любовь, красота относятся к этому. Потому что, когда я говорю, что люблю этого человека, то я не могу просто описать причину и сделать список причин, ради которых я его люблю и ради которых его отрицательные свойства для меня ничего не значат. Любовь таинственна, она — ответ живой души на живую душу, на тайну человека. И это знает любой безбожник, у которого есть мать, отец, жена, невеста друг, ребенок. То же самое относится к красоте. Мы не можем объяснить, почему мы смотрим на закат солнца на картину великого мастера, и у нас захватывает дух. Мы пототом, когда начинаем размышлять об этом, можем надумать причины, чтобы объяснить другому человеку, но не первично.
Я помню разговор, который был у меня несколько лет тому назад. Когда я поднимался по лестнице гостиницы «Украина», ко мне подошел молодой офицер и у нас состоялся следующий диалог. «Судя по вашей свитке, вы верующий?» — обратился он ко мне. Я ответил утвердительно. На что последовало: «А я нет». — «Тем хуже для вас». Он продолжал: «А вы покажите мне своего Бога на ладони, и я поверю¦. И он протянул ко мне руку ладонью вверх. Я, заметив на пальце обручальное кольцо, сказал: »Вы женаты? И дети у вас есть?"—Да". «И вы их любите?»—"Да"—"Это неправда".—"То есть, как неправда?—удивился он,—я знаю, что их люблю, и могу это доказать: я на них работаю, покупаю жене цветы, детям подарки".—"Нет, это не объяснение. Может быть, вы боитесь своей жены или боитесь общественного давления. Вы покажите мне свою любовь на ладони, потом будем разговаривать"…
И если мы говорим о Боге не в таких примитивных выражениях, какие я только что привел, но в этом направлении, если бы говорили о Нем не как о Творце и т. д., а как о Красоте, то всякий бы понял, о чем мы говорим. Истина, красота, любовь, добро—не в каком-то метафизическом смысле, а в том смысле, в котором любой человек может это понять—это почва, на которой мы можем встретиться.
Протопресвитер Виталий Боровой:
Я не буду благодарить владыку Антония, потому что это чувствуют все; скажу кратко. Если бы от меня зависело, то я не то что просил бы напечатать его доклад вместе со всеми другими докладами, я хотел бы, чтобы этот доклад не просто был напечатан в «Журнале Московской Патриархии», потому что далеко не всех он достигает, а я хотел бы, чтобы он был в таком кратком виде отпечатан и разослан всем священникам Русской Православной Церкви, которые не только совершают литургию, но и имеют дело с духовничеством, т. е. исповедуют. Я думаю, что мы имеем моральное право просить и даже требовать этого от нашего руководства и священноначалия, потому что владыка Антоний сказал то, что надо было сказать в это время и в этом месте.
Здесь много священников, и я один из них. Мы все по опыту знаем, и надо искренне это признать, что очень часто мы ломаем, калечим и раним души людей, уже пришедших ко Христу, в Церковь, обращенных (или, вернее, обративших сами себя), или только вступающих в Церковь, интересующихся, приходящих ко Христу. В мире идет невидимая брань, не только мы воины и руководители, но также — тысячи, сотни тысяч воинов Христовых, которые вступают в Церковь. А мы во имя ложно понятого смирения и послушания, стилизованных по образу монашеской, подвижнической жизни XVII, XVIII, XIX веков, требуем от этих людей определенного стиля жизни, забывая, что они не монахи, а воины Христовы в миру, и забывая, что мы сами—простите меня—мы сами не соответствуем этому идеалу. Мы сами далеко не аскеты и не монахи, а на них одеваем одежды стилизованного монашеского православия и в основном требуем от них выполнения только этого! А когда говорим о духовничестве, то жонглируем словами высокими, святыми, аскетическими, забывая, что они не монахи, и что мы сами не выполняем того, что говорим.
Простите, я еще раз повторю: этот доклад, по крайней мере для меня, и я думаю, для всех нас, должен быть и усовещанием, и практическим напоминанием того, что мы должны делать, когда мы думаем, что мы «духовники» и «отцы». Спаси, Господи!
Митрополит Антоний:
Я благодарю отца Виталия за то, что он сказал, и «ничтоже супротив глаголю». Спасибо вам за добрые слова и терпение. Если можно, я добавлю одно слово о свободе и о воле. Воля человеческая есть одна из трех воль, которые определяют судьбу мира. Отцы Церкви говорили о том, что воля Божия всегда благая, но она себе положила грань, дав свободу человеку, свободу сказать: «Аминь» или отказаться от Божией воли. Бесовская воля всегда разрушительная, всегда злая, всегда лживая и убивающая. И, наконец, между этими двумя волями—воля человеческая, человек может прислушаться к кроткому, любвеобильному призыву Божию или поверить лживым обещаниям сатаны. И в зависимости от того, что он выберет, та или другая воля в данную минуту преобладает в данном человеке—и вокруг него по необходимости. Но если человек сделал выбор между Богом и сатаной, между жизнью и смертью, между правдой и неправдой и т. д., то есть одно свойство, которое ему абсолютно необходимо для того, чтобы пройти весь свой путь успешно. Серафим Саровский говорит об этом ясно, он говорит, что отличает погибающего грешника от спасающегося грешника решимость. Колеблющаяся душа постоянно поднимается, взлетает и падает. Только при решимости, которая может превозмочь наши собственные желания, наши собственные стремления, нашу косность и т. д., можно идти вперед.
Теперь, что касается свободы. Мы всегда думаем о свободе как о возможности выбора и, конечно, это так—эмпирически.
Но есть и другое. В паримии перед Рождеством говориться о Христе пророчески, что раньше, чем Он сможет отличить доброе от злого, Он изберет доброе. Потому что этот выбор между добром и злом по нашему усмотрению уже является результатом нашей испорченности и нашего нездоровья.
Но в свободе есть несколько удивительных моментов по красоте. Латинское слово libertas—из закона, и это определение ребенка свободнорожденного, от свободных родителей. Значит, когда мы говорим, что мы свободны, то мы говорим о том, что для Бога мы свободнорожденные, мы не рабы, мы уже свободны. Но эта свобода может удержаться только путем подвига, потому что если человек родился в свободной семье, но стал рабом пьянства или других пороков, то он уже раб, а не свободный. Поэтому требуется то, что мы называем дисциплиной, которую мы часто путаем с дрессированностью, с порабощением чужой воле, тогда как дисциплина—это состояние ученика, discipulus, это тот строй души, который человека вольного и анархического делает учеником и последователем наставника. «Подражайте мне, как я Христу» (1 Кор 4: 16).
Но если вы подумаете о других словах,—freedom, Freicheit—они все происходят от санскритского слова, которое как глагол значит «любить» или «быть любимым», или как существительное «мой любимый». Так что предельно интуиция, гениальная интуиция раннего санскритского человечества: свобода—это соотношение совершенной любви между двумя существами, между Богом и нами. Поэтому свобода не заключается в том, что я могу выбрать добро или зло, а в том, что я вырос в такую меру взаимной любви с Богом, что я заранее избираю то, что Божие.